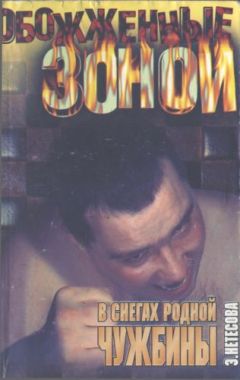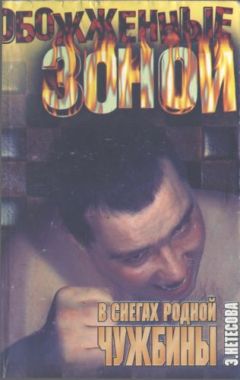А перед глазами Бориса встали лица сестер и братьев, единственного в жизни друга — Сашки Коломийца…
«Нет! Не могу! Убью гадов!» — дрожали руки, сжимавшие автомат, а глаза уже искали, где можно было бы расстрелять обоих. Но… Водитель не смолчит, доложит Тихомирову — и тогда что?
— Служивый! Дай закурить! — послышалось сзади.
Борис молча захлопнул смотровое оконце в кузов. Приехав во двор зоны, он доложил начальнику о прибытии, спросил, куда доставить зэков, вывезенных с карьера.
— Пусть в баню сходят. Потом в больницу определи, — ответил тот устало. И продолжил: — Они — мой золотой фонд! Дольше других в карьере выдержали. И, говорят, работали как звери! А значит, жить хотят. Может, если выйдут на волю, не вернутся в «малину»? Ведь жизнь не бесконечна и у них… Да после перенесенного даже отпетые поймут, что второй жизни никому не дано, а смерть у каждого за плечами. И уж если не привелось прожить свое человеком, то хотя бы отойти достойно захотят эти двое…
Борис молчал.
— Ты не согласен?
— Этим я никогда не поверю, — ответил он глухо и попросил разрешения вернуться в казарму.
О виденном в карьере его расспрашивали сослуживцы-охранники. Интересовались, как погиб при этапировании Жмота Юрий. Как чувствует себя в карьере президент.
— Лихо ты его приловил. Заставил Юрку тащить на плечах! Это ж для Жмота хуже «вышки», как он выжил? — удивлялись охранники.
— Молодец, Борис! Я бы в этой ситуации растерялся и, может, оставил бы Юрку в распадке. Что делать? Мертвого не вернуть, а самому подыхать неохота, — говорил один из охранников.
— А я бы убил его! Прямо в распадке. За Юрку!
— Это легче и проще. Но так Жмота лишь наградил бы! Теперь он это и сам понимает, — ответил Борис и пошел проверить, чем заняты Пан и Медведь.
Те, отмывшись под горячей водой, только что вышли из бани, одетые в чистое белье и новую робу.
— Куда направились? — спросил Борис.
— В барак…
— К своим…
— Живо в больницу! — приказал Борис глухо и, открыв дверь в кабинет врача, сказал: — Принимайте чахоточных из карьера! В отдельную палату, в подвал! Чтоб дурная кровь в голову не стукнула!
— Бог с вами! Там такая сырость, что здоровый не выживет, этих двоих лечить надо, сами говорите! — не соглашался доктор.
— Эти выживут! Черт их не возьмет! — ушел он, уверенный в том, что врач поступит по его совету.
Но через неделю, среди ночи, подняли охрану зоны по тревоге. Из больницы сбежали Пан и Медведь.
Пожалел их врач. И вместо подвальной палаты поместил в сухую, теплую, рядом со своим кабинетом. Те, забрав все ампулы с морфием, сбежали ночью через окно в кабинете врача…
— Собак возьмите побольше! — посоветовал Тихомиров.
— Не надо столько ребят. Хватит пятерых. Эти далеко не уйдут. Не успели от карьера очухаться. Слабы! — уверенно сказал Борис.
Медведя и Пана они нашли под утро. Оба зэка спали у догоревшего костра, свернувшись, будто на карьере, в клубки. Всего полкилометра отделяло их от трассы, но не хватило сил.
Борис глянул на бледные, изможденные лица. Вот Пан потянулся головой к костру. И вдруг, словно от взгляда, проснулся, открыл глаза.
— Ну что? Опять в карьер пойдешь? — усмехнулся Борис.
— Только не карьер! Слышь, кент, ты же нас оттуда снял. Лучше замокри! Обоих сразу, — встал на колени Пан.
— Вставай! Шевелись, гады! — приказал гулко. И погнал вперед, как зайцев, через снега и холод в зону бегом, без передышки.
Сослуживцы, молодые парни, еле успевали за Борисом.
Первым этой гонки не выдержал Медведь. Он будто споткнулся о собственную судьбу, холодную и корявую. Упал ничком в снег. Ноги еще дергались, словно продолжали идти. А сердце уже остановилось.
— Димка! Дмитрий! — заорал Пан в ужасе и понял — поздно.
Кровь, хлынувшая из горла, окрасила снег в жаркий цвет, подарив украденной свободе последнее тепло и душу зэка, чье имя лишь перед смертью вспомнилось, да и то лишь в страхе перед собственной, вот такой же кончиной…
— Вперед! — Пан не мог бежать. Он шел, шатаясь, тяжело переставляя ноги.
Его уже никто не торопил. Хотя и жалеть и поддержать было некому.
Когда его вернули в палату, он долго лежал вниз лицом. Отказывался есть.
— Ты подбил его в бега? Чего ж теперь жалеешь? Скольких убил, забыл всех. Этого только помнишь? А как в Охе, когда убили детей сапожника и сына следователя Коломийца? Не жаль их было?
Пан приподнялся на локте, вгляделся в лицо охранника. Не узнал. И спросил хрипло:
— А ты как допер о том?
— Не вспомнил, не узнал Куцего? Считал, что сгнил давно, сдох, как собака? А я, видишь, дышу! Тебя сто раз угрохать хотел! Да не могу, покуда ты дохляк! Одыбайся, паскуда! За них! За все разом! Может, потому и свиделись, чтобы счеты свести до конца, подбить бабки! Ведь пока ты дышишь, мне жизни нет!
— Борька! Ты? — округлились глаза Пана, и фартовый сел на койке, побелев лицом до неузнаваемости.
— Я!
— Не узнал. Как изменился ты! А ведь совсем мальчишкой был. Фартового из тебя слепить хотели. Но не пофартило. Сбился ты! К лягавым слинял! А зачем? Иль сытнее хавал?
— При чем жратва? Не она главное для меня! Вон ты паханил. Ну и что? Второго пуза не заимел! До конца жизни не нажрался! Как ни фартовал, а в карьере чуть не сдох, как червяк! И кто тебе помог? «Малина»? Кенты? Башли? Спросил бы у Медведя, нужны ли они ему на том свете теперь? А скольким жизни укоротил? За что?
— Зачем, вякни, дышать оставил меня? А ведь мог прикнокать, и не раз! Зачем резину тянешь? Иль с кайфом хочешь ожмурить? Под кокаин? Валяй! Твоя взяла! — разодрал тот рубаху на груди.
— Я — не ты, козел, когда здоровенным мужиком детей придушил голыми руками! Я тебя пальцем размазать мог, только б захотел! Но у меня не твое нутро червячье! Мужика в себе уважаю. Подожду, пока оклемаешься, встанешь на ноги путем. Вот тогда и посмотрим. Но знай, попытаешься слинять, все северные зоны будут знать, что смылся ты от честной разборки со мной. Слинял, как гнилой пес. Сдрейфил, как шкура! Тебе нигде не будет ходу — ни на воле, ни в «малинах», ни в зонах, — закипел Борька.
— Я не слиняю. Это — верняк! Но не из-за тебя. Не потому, что воля дороже чести. Нет! Уже больше не смогу. Дышать осталось мало. Не хватит сил на бега. А и дышать на воле не сумею. «Малинам» я теперь без понту. Пока живу. Но уже — жмур. Не следчего и не Коршуна проигрываем мы, Борис. А большее… В ставке — жизнь. И чаще всего своя. А ведь она — одна. Всего одна у каждого! И стопорило, и мокрушник, убивая, не бывают в выигрыше! Судьба их много раз прихватывает за горло. И заставляет подыхать по сотне раз, пока смерть и впрямь не сжалится. Кто тебе в таком расколется? А мне уже терять нечего. Все посеял, что имел. Имя, честь? Они еще в карьере сдохли! И мне не выйти на волю. Уже никогда. Сгнию, как пень! Иль, как Медведь, свалюсь! Фартовые в барак не впустят. Чтоб не заразиться. Выходит, сдохнуть надо мне. Как пидору, за бараком. Даже под шконкой не оставят, чтобы воздух не гноил. Оттого и пошли в бега. Уж лучше самим окочуриться, либо вы, охранники, размажете. Но не фартовые клешнями стопорил. Такое не пережить. Но не пофартило. Выходит, Медведю файней. Я один в проигрыше. Вчистую все продул. И мне к чему защищаться, когда дышать уже незачем? Тебе этого не понять, а мне ничто не изменить. Выходит, ты, как кент, лишь выручишь меня. Чахотку в зоне не вылечить. Я это знаю. А жить и гнить, как параша, кой понт? Избавь меня от мук. И я не пожалею, что встретился с тобой!
— Мерзавец! Ты еще и выгоду ищешь? Свой навар? Уж не прогадал ли, что мне на пути попался? Посмотрел бы на тебя, что сделал бы, окажись на моем месте? — вскипел Борис.
— А ничего! Фартовые с фраерами не махаются! Это западло!
— А дети?
— Ты лажанулся! Тебя засек стремач, когда в ментовку похилял! Это за них и замокрили! Как гнилой корень, сучье семя! Так решила «малина», не я! — Пан вдавил голову в плечи, увидев, как встал, хрустнул пальцами и побелел лицом бывший его шестерка. И, подойдя вплотную, едва сдержался, скрипнув зубами.
— Мокри! Не тяни резину! — вздохнул Пан. И встал перед Борькой во весь рост.
— Лечись, говнюк! — будто плюнул в лицо охранник и сказал уходя: — Моих рук ты не минешь все равно…
Пан больше не пытался бежать из больницы. Даже когда был шанс. Он, словно задетый за живое, не хотел лишиться в этой жизни последнего своего звания. Хотя понимал, что в его положении оно ничего не стоит.
Все надежные кенты, с которыми раньше он жил в фартовом бараке, за организацию бунта оказались в карьере. В живых остались немногие. Да и у них дни сочтены. А те, в бараке, кенты чужих «малин», они не хевра Пану Не зря никто из них не навестил его ни разу. Хотя видели, знали, что вернулся он с карьера. Пока живой…
Фартовый кусал подушку. Обидно. Так больно понимать, что фортуна наказала злее разборки, обрекла на пытку, медленную смерть и полную зависимость от администрации зоны. Он не смеялся, говоря, что нет ему путей в фартовый барак. А как дышать? С работягами?