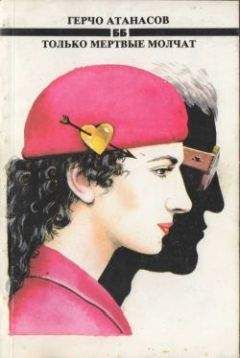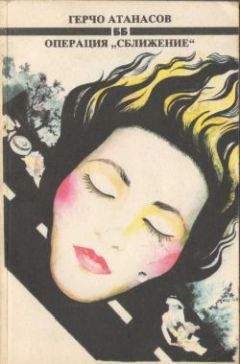Герчо Атанасов
Только мертвые молчат
Станчев и Михов провозились почти час, пока собрали все свои рыболовные причиндалы. И тот, и другой были не из самых шустрых, мотались вокруг машины с распахнутыми дверцами, засовывали головы в багажник, вползали в салон, по многу раз поднимались и спускались по лестнице в доме Станчевых, а Петранка наблюдала за ними, давясь со смеху. Уже перевалило за девять, солнце начало припекать, а наши рыболовы все никак не могли собраться.
– Надо не забыть складные удочки, ты ведь помнишь?
Станчев-то помнил, только отнюдь не был уверен, положил ли он эти складные удочки или не положил. В шкафу их не было, значит, положил. Только пойди найди их в этих бесчисленных мешках, сумках и коробках.
– Мы же их куда-то сунули, голубчик? – недовольно рычал Михов, с головой погруженный в сбор вещей.
– Миха, я каждый раз даю себе слово укладывать их в пластмассовый футляр…
– Розовый?
– Розовый.
– Если ты помнишь, в прошлый раз я тебе их дал в полиэтиленовом пакете.
– Ну да… – вздыхал Станчев и семенил наверх.
Наконец с помощью своей дочери ему удалось обнаружить пакет, засунутый в какую-то старую коробку из-под душистого перца. Но тут же возникла другая забота – надо было взять запасную леску.
– У меня есть, – заявил сновавший возле багажника худенький Михов. – Я еще с вечера приготовил.
Однако лески не обнаружилось ни в его карманах, ни в сумках. Перерыли весь багаж, перещупали все, что возможно, – лески не было и в помине. Присели выкурить по сигарете.
– Положеньице, – заметил Михов. – Я же помню, что брал ее.
Станчеву хорошо были знакомы подобные «положеньица».
– Надо заскочить к тебе, Миха, лески старые, могут порваться и под тяжестью червяка…
Петранка торжественно проводила их, стоя на балконе, однако не больно удивилась, когда через полчаса снова услышала шум мотора. Ее взору предстала «лада» с распахнутыми дверьми и открытым багажником.
– Что стряслось, рыболовы? – крикнула она, перевесившись через перила.
Оба повернули к ней головы, как черепахи, а Михов, старый шутник, подкрутил ус:
– Что это ты машешь руками, как Гейне при вести о революции?
– Прости, дядя Боря, я думала, вы собирались на рыбную ловлю…
– Петруша, – крикнул отец, – ветчина…
И продолжил объяснения знаками. Они забыли специально оставленную портиться ветчину, незаменимую приманку для раков.
Петранка принесла обернутый в станиоль кусок мяса и брезгливо протянула его отцу.
– Вы неподражаемы, дорогие мои барсуки. Свои свирели не забыли?
Оба указали на набор разобранных бамбуковых палочек.
– А собрать их сможете?
Михов почесал за ухом, его тонкий ус дрогнул.
– В крайнем случае просверлим в них дырки и устроим гала-концерт для рыб… А ты готовь кастрюлю!
Наконец-то выехали в сторону речки в горах Стара-Планины. День обещал выдаться теплым, к обеду могло стать и жарко, и они опустили боковые стекла в машине.
– Запаздываем, Миха-а, запаздываем, – вертел баранку Станчев. – Если бы начальство увидело меня сейчас, точно отправило бы на пенсию.
– Опоздавшие да будут первыми, Коля, еще в древних книгах записано.
Старый холостяк, Михов имел широкие взгляды на жизнь.
Прибыли на место, поставили машину в тень, разделись до трусов, на головы водрузили панамы, потратили еще уйму времени, пока выбрались к обрыву. Внизу вода обмывала замшелые скалы, поросшие травой и орешником, заверчивалась, как в валяльнице, и с веселым журчанием уносилась за поворот. Вокруг не было ни души, среди корневищ на противоположном берегу, подобно молодым жеребятам, прядали ушами канадские тополя, неутомимо шуршал ручей, сновали насекомые. Долина была окружена покрытыми маслянистой зеленью горными склонами, сужавшимися кверху и оканчивавшимися оголенными вершинами. Над ними трепетало побелевшее небо с клубившимися белесыми облаками. Мужчины чувствовали, как немеют и расслабляются в воде ноги, освободившиеся от оков обуви, что возбуждало в них древнее ощущение свободы, которого так не хватает городскому жителю.
– Благодать, Коля, тишина и благодать… – заметил Михов. – Ни тебе римского, ни тебе уголовного, ни тебе гражданского права. Всегда эта мысль лезет в голову, как только выберусь на природу.
Вокруг них бесшумно носились бабочки, внезапно подхватываемые неуловимым ветерком. Михов с удовольствием наблюдал за их полетом, посматривал на них и Станчев.
– А ты осмелишься утверждать, что не существует, скажем, бабочкиного права? Или воробьиного. Есть и такое, природа кроит широко…
Станчев слушал тихий голос своего друга, но не поспевал за своими мыслями, которые перескакивали от следствия к Петранке, от нее к бабочкиному праву, затем к Арнаудову, в памяти мелькало лицо Досева, номер шуменской «шкоды».
– Славная у тебя дочка, – прервал его размышления Михов. – Милый ребенок.
– Какой тебе ребенок – девица на выданье.
– И когда это она успела так вымахать?
Станчев сказал, что у Петранки уже преддипломная практика, осталось только написать работу. Но тема у нее, тема! Как она могла выбрать такую неясную материю, – представляешь, новый экономический механизм в планировании текстильного производства!
– Не бойся, все равно до осени этот механизм не изобретут.
– Если вообще изобретут когда-нибудь, – добавил следователь.
Внизу валяльня ополаскивала скалы и обмывала берег, а рыба не клевала. Они сменили наживку и снова принялись ждать.
– Интересные дела попадаются? – спросил Станчев.
– Я думаю, что интересные дела появятся, когда изменятся наши прерогативы – a l'esprit de loi[1]… Монтескье.
Станчев понял намек.
– Читал я это сочинение, хотя и с запозданием.
– Все мы читаем его с запозданием… в несколько веков. А в нем есть основополагающие вещи.
– Есть, – ностальгически произнес Станчев. – По поводу того, как отделить врача от пациента. Или наоборот.
Михов оценил это наблюдение.
– Теперь мы уже не плебеи, Коля, плебейское ушло из нас, даже в одежках и манерах. Знаешь, что нам требуется первым делом – зрелая аристократичность.
– Аристократичность?
– Да, притом коммунистическая. Широкий и независимый взгляд на вещи, с высоты духа идей.
– Что ты понимаешь под духом идей?
– Что-то подобное духу закона – не только каждодневное удовлетворение интересов, в которое вмешиваются и корыстные ручонки, но и перспективное, стратегическое удовлетворение потребностей, как сказали бы в генеральном штабе. Примерно, чтобы можно было беспрепятственно отдать под суд, например, министра или того же меня, если есть доказательства.
– Это не аристократичность, а что-то иное.
– Не цепляйся за слово. Аристократия – это сословие, аристократичность – зрелость духа.
– На одном голом духе, Миха, далеко не уедешь.
– Почему голом? Голые духи бывают лишь на спиритическом сеансе, зрелый же дух предназначен для зрелой жизни.
– Возможно, но от этого веет твоей французской школой.
– Марксистской, – поправил его Михов, дернув удочку. – Обратная связь, дорогой, осмысление собственных интересов со стороны горизонта… Вот дрянь, не клюет.
Станчев потянул удочку и сменил наживку.
– Видишь, кусала.
– А насчет врача и пациента ты хорошо сказал, надо будет поведать об этом Диманову с просветительской целью.
– Он тебя не поймет.
– Не поймет? Он-то поймет, только неверно истолкует, в этом вся беда.
– Отчего же неверно? – повернулся к нему Станчев.
– Потому что… – Михов наморщил лоб, – Диманов – слабый юрист, это раз. Во-вторых, он появился у нас по протекции – иначе гнил бы в районных отделениях. И, в-третьих, он по убеждению циник, хотя сам это не сознает.
Станчев почесал голую ногу.
– Цинизм как личная философия, в этом ты прав. Но погоди, почему мы с тобой да, скажем, Вылев, Николчин, почему мы не превратились в циников, а Диманов и иже с ним стали таковыми?
– Это риторика.
– Нет, не риторика.
– А если нет, ты что – сам не знаешь, почему?
– У меня имеется одно объяснение личного характера. По-моему, дело в том, что недостатки, к которым имеют предрасположенность люди этого типа, находят питательную среду.
– Ты не обидишься, если я замечу, что твое объяснение носит отнюдь не личный характер? Но почему именно отрицательные черты этих людей находят питательную среду, а не положительные? Вот это уже не риторика.
– Не риторика, ты прав.
– Наше дело, Коля, началось в социальной сфере, но должно закончиться в моральной и духовной. Иначе…
В подпольной организации, которая действовала в окрестностях Лиона, собрался пестрый народ – коммунисты, анархисты, демократы, одно время там подвизался и смуглый корсиканец, неисправимый поклонник своего именитого сонародника и империи. Там-то Михов часто пускался в споры с одним либеральным клерикалом – каких встреч нам только не преподносит жизнь! – мсье Жуве, бывшим пастором сельской церквушки на побережье. Начитанный католик родом из Эльзаса, мсье Жуве прекрасно знал немецкий и немцев, их бесовство, уходящее корнями, по его словам, еще во времена Лютера и зарождения лютеранства… Борис, обращался он к Михову, растягиваясь на солнышке, немцы – плебеи, они угробили Рим, но не смогли унаследовать его культуру, бесплодными были и попытки создать собственную аристократию, за исключением прусской… А Гете и Гейне? – возражал ему Михов, на что тот снисходительно усмехался… Гейне – второстепенный поэт, а господин фон Гете – провинциальный эпик, который испоганил средневековые легенды о немецком докторе, лишив их мистических прозрений и нацепив на них узду разумного и полезного. Но я толкую о другом, Борис, а именно о том, что вам, коммунистам, следует проявлять огромную осторожность именно в плане соотношения «польза-дух». Вы – атеисты, и трудно предположить, как далеко могут зайти дела, если вы победите… Мы боремся не за торжество пользы, а за торжество справедливости, Жак, возражал ему Михов, это разные вещи. Я здесь уже третий год и осмелюсь вам сказать, что не могу себе представить более прагматичного общества, нежели ваше… С одной ма-аленькой поправкой, дорогой Борис, – при всем при том мы верующие, и даже последний лавочник страшится судьбы и больше рассчитывает на французский дух, чем на линию «Мажино»… Жак, говорил ему Михов, можно откровенно? В том-то и дело, что вы рассчитываете на французский дух, который защищают английские крейсеры, американские воздушные крепости и русские танки… Дорогой Борис, а то, что мы с вами – французский католик и болгарский коммунист – встретились именно здесь, разве это проявление материи, а не духа? Что есть Франция, скажем, без Паскаля, Вольтера, Берлиоза и Бальзака? Покоренная провинция, не более того. Так вот, провинция покорена, а Франция живет. Вы меня понимаете?