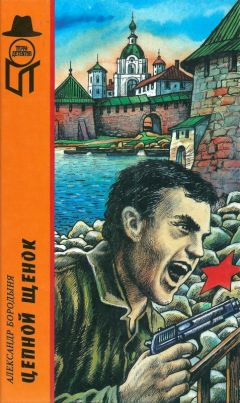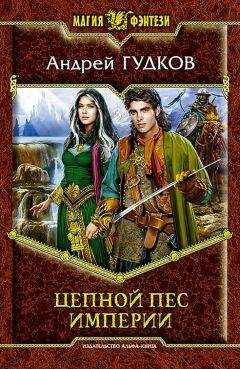Когда, оглядываясь, он крался по двору, в одном из окон на миг вспыхнула знакомая лампа. Уже посередине лестницы он сообразил что-то (мысль показалась посторонней). Ник обернулся. Все окна первого этажа были черны. Он подумал, что Мира встала с кровати, но не захотела будить этого парня с волосатыми пальцами и быстро погасила неосторожно зажженную лампочку. Вероятно, ей уже рассказали обо всей этой ерунде. Чужой кто-то бродил по дому. Больше не ходит. Сделали укол и увезли. Если она не попросила описать этого чужого, тогда все в порядке. Если она не знает, что он приехал, то пусть уж не знает совсем. Если она не знает, что он исчезал, пусть не знает, что он вернулся.
Приоткрывая дверь своей комнаты, Ник был уверен: в доме никто не заметил его возвращения.
«Нужно записать в дневник, — подумал он. — Давно его не открывал. Может быть, зачеркнуть последнее требование. Не нужно мне с Мирой встречаться. Не нужно. Отменить!»
В комнате было темно, только чуть-чуть серебрилось зеркало. Дверь не скрипнула.
— Ма? — шепотом спросил он, стоя на пороге. — Ма, ты спишь? — Он прислушивался и среди неясного отдаленного шума моря и шороха листьев нащупал ее тихое дыхание. — Это хорошо, что ты спишь. Проспала ты все…
Он вошел, притворил за собой дверь, постоял немножко посреди комнаты, потом присел на корточки рядом с кроватью. Голова его оказалась вровень со свисающей тонкой рукой матери. Он осторожно подышал на эту руку, подул.
Рука, покачивающаяся в нескольких сантиметрах от его губ, пахла так знакомо, так нежно, от руки исходило тепло. Разглядывая спящую Ли, Ник пытался понять, куда делась вся его усталость. Только что, несколько минут назад, на подъеме к дому, приходилось напрягаться, чтобы не закрыть случайно глаза, не задеть ногой за какую-нибудь веревку, не врезаться со всего размаха лбом в камень или в забор (это был результат шока, и это было понятно), теперь он, кажется, вовсе не нуждался в отдыхе.
Ли дышала очень тихо, но даже по звуку одного дыхания он мог бы ее узнать. Почти не прикасаясь, он поднес ладонь к одеялу, там, где сердце. И ворсинки пощекотали кожу. Он услышал, как дрожит ее сердце. Мизинцем Ник осторожно дотронулся до женской ступни. Она была шершавой, как недавние звезды над запрокинутым лицом, и от этого снова захотелось заплакать.
— Ма, — прошептал он, уверенный, что она спит. — Ма, я тебя хочу… Я тебя хочу как женщину… Ты самая красивая, ты самая нежная на свете… Таких больше просто не бывает… Ма, я это понял потому, что только что прошел рядом со смертью. Представляешь, меня хотели убить. Мне в спину направили штык… Прямо между лопаток, я его даже почувствовал… — он переступил на корточках и поправил одеяло, подтыкая его край. — Спи, ма… А я посижу с тобой рядом, ладно?
Ли стоило усилия не пошевелиться.
«Нужно сказать, что я не сплю… — подумала она. — Почему я молчу? Какие он глупости говорит! Разве глупости?.. — перед ее закрытыми глазами тьма пульсировала, распадалась и медленно кружила, будто черные птицы на черном небе. — Нужно ему сказать!..»
Она чуть подвинулась, и крестик впился, острый, в грудь.
Господи! — простонала она и присела на постели, растирая глаза. — Господи, как больно!
Он сидел на корточках.
Ма, хочешь выпить?
— Что? Выпить?
— У нас, между прочим, есть целая бутылка.
— Да! — она нервно потерла щеки, потерла глаза, подбородок, ей казалось, что от долгой неподвижности лицо онемело и кожа потеряла чувствительность. — Мы, кажется, покупали!
— У старухи. Такая черная, противная, вспомнила? — Он говорил уже другим, бодрым голосом, и в бодрости не было ничего неестественного. — Помнишь, она хотела непременно нам сосватать комнатку! А чачу вытащила откуда-то из-под юбки!
— Я как-то нехорошо заснула… — Ли смотрела на сына. — Ты прав, давай выпьем! Немножко…
Он подвинул рюкзак, развязал, запустил в него руки.
— Погоди минуту, мне нужно кое-что записать, а то забуду потом.
Он достал свой красный, тисненный серебряной лентой дневник, достал авторучку и в свете фонарика перечеркнул несколько написанных накануне строк. Перо замерло над листом. В свете фонарика, идущем снизу, лицо его было похоже на белую объемную маску с черными провалами вместо глаз.
— Понимаешь, ма!.. Я кое-что понял…
— Хорошо! — сказала она и опустилась на постель на спину. Она зажмурилась, она никак не могла избавиться от черных птиц. Она сказала: — Ник, я не спала сейчас, я все слышала! Все, что ты говорил…
— Слышала? Что ты слышала, ма?
Чтобы выговорить, ей пришлось продавить мокрую пробку в горле:
— Все, что ты только что говорил.
— Ты испугалась, ма? — он надел на ручку колпачок и, закрыв дневник, опустил его обратно в рюкзак.
— Я испугалась? Не знаю… Может быть, я что-то не так поняла?
Стряхивая тяжелых птиц, Ли открыла глаза, Ник сидел согнутый рядом с рюкзаком. Горел фонарик.
— Мы очень тесно живем, Md! — сказал он. — Очень близко! Ты должна чувствовать что-то подобное… Обычное дело… Эдипов комплекс! Нельзя уменьшать дистанции. Но это у всех, по-моему, так.
Чернел провал рта, глаз не видно, наверное, сын улыбался.
— Это ты где прочел?
— Ма, неужели ты никогда себе ничего такого не выдумывала? Про меня? Или про какого-нибудь другого мальчика? Неужели ты — нет? Скажи правду, ма, я больше никогда не буду спрашивать! Я обещаю!
— Ты в дневник это все записываешь? — спросила она пересохшим горлом.
— В этот уже нет! Во второй записывал. Про эдипов комплекс… Начитался Фрейда и фантазировал… Думаешь, нельзя было?
— А это какой же у тебя?
— Это третий, ма! В нем про эдипов комплекс уже ни слова. Совсем другие книжки теперь влияют на мое юношеское сознание… Совсем другие проблемы.
— Какие же теперь проблемы? — Голова ее все еще кружилась. Смотреть она могла только на окно, за которым уже чуть посветлело небо. — Ник, сюда приходила эта женщина, Мира. Я так ее поняла, нужно уходить из этого дома. И чем быстрее, тем лучше. Ты ведь меня обманул?
— Обманул, — охотно согласился он, пора было уже сменить тему. — Прости, ма! Но если бы я стал все объяснять…
— Ты думаешь, я бы не поняла?
— Не знаю…
— Ты думаешь, я бы не пошла за тобой?
Зубами он вырвал из бутылки мягкую пробку. Чача издавала пронзительный запах гнилого винограда. Ник извлек кружки, плеснул сначала в одну — поменьше, потом в другую — побольше и вторую кружку протянул матери.
Она проглотила залпом, он с небольшой задержкой, подержал во рту острую горькую каплю. Вдавил пробку и бутылку, нажал пальцем. Пробка была мягкой и мокрой.
— Ма?
— Что? — напуганным шепотом спросила она.
Ей почудилось на улице далеко какое-то движение: то ли шум шагов, то ли шум моторов. Отчетливо что-то передвинули, что-то большое, камённое. Посыпалась по склону мелкая каменная крошка. Вынув сухие цветы из вазы, Ник встал перед кроватью на колени.
— Прости меня, пожалуйста!
Он вложил цветы в ее непроизвольно подставленную руку.
— Ты извращенец такой-то, сыночек! — стараясь произнести это слово как можно язвительнее, прошептала Ли и чуть подвинулась на кровати. Он смотрел ей в глаза. За окном уже заметно рассвело.
Она видела его лицо уже не как маску, заострившееся, бледное, сосредоточенное. Он подвинулся.
— Чего ты хочешь?
Ник хотел взять ее голову в свою большую ладонь, чуть повернуть, преодолев легкое сопротивление, придвинуть к себе, так чтобы губы ее не могли убежать, и поцеловать, но вместо этого просто глупо клюнул губами в губы, как цыпленок, а со второй попытки обслюнявил ее щеку.
Не просыпаясь, Мира скребла ногтями кожу у себя на бедре, ей чудилось, что прикосновение шершавых мужских губ прилипло к ней, подобно кусочку перцового пластыря, подобно жгучему березовому листку в бане. Отрываясь от Александра, все время неясной мыслью по кругу она возвращалась и возвращалась к своему рыжему мальчику. Так же, не просыпаясь, на уровне тикающих часов, она слышала винтовочные хлопки.
Стреляли довольно далеко, километрах, наверное, в пяти от города. Потом что-то неприятно проскрежетало совсем рядом, во дворе.
Неосторожным движением Мира причинила себе боль и проснулась. Она выскочила из-под одеяла, разбирая железной расческой спутавшиеся волосы, шагнула к окну. Небо уже потеряло звезды, их было чуть видно, а пространство двора будто заволокло тонкой прозрачной кисеей. Но туман не густел, он, напротив, растаивал на глазах.
Неприятный скрежет объяснился. Две женщины в черном, повернув набок огромную каменную фигуру под навесом, грузили ее на металлическую тележку. Из-под платка мелькнул жесткий взгляд, и Мира сообразила наконец: шторы-то распахнуты, а она совсем голая. Запахнула занавесь. Соскоблила ногтем с бедра раздавленную дольку мандарина. Помассировала пальцами мышцы рук и ног, подергала. Показала своему отражению в зеркале самый кончик острого языка.