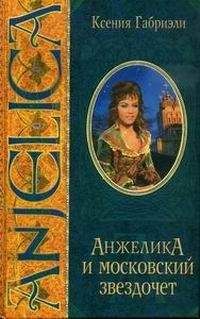«Но что же это значит?» – невольно задавала себе вопрос Скюдери. Вдруг она заметила, что на дне ящичка лежит небольшая сложенная записка. В надежде найти в ней разрешение занимавшей ее загадки Скюдери прочла записку и вдруг, задрожав, уронила ее на пол, подняв умоляющий взгляд к небу, и бессильно опустилась в кресло. Мартиньер и Батист в испуге бросились к ней.
– О боже! – воскликнула Скюдери, заливаясь слезами. – Какой стыд, какое оскорбление! И это в мои-то годы! Как я могла, подобно глупой девчонке, совершить такой необдуманный поступок? Вот к чему привели слова, сказанные полушутя! Меня, прожившую безукоризненную жизнь, обвиняют теперь в сообщничестве с самыми ужасными злодеями!
И она, горько зарыдав, прижала к глазам платок, между тем как Мартиньер и Батист, теряясь в догадках, решительно не знали, чем и как ей помочь. Наконец, Мартиньер, заметив на полу роковую записку, подняла ее и прочла:
«Un amant, qui craint les voleurs
N’est point digne d’amour».
«Ваш утонченный ум, сударыня, спас от преследований нас, пользующихся правом сильного для того, чтобы присваивать себе сокровища, отнимая их у низких и трусливых душ, не способных ни на что, кроме мотовства. В знак искренней благодарности мы просим вас принять этот убор – драгоценнейшую из вещей, какие нам удалось добыть за долгое время, хотя вы, милостивая государыня, заслуживаете гораздо лучшего. Просим вас почтить нас вашим расположением и сохранить о нас добрую память!
Невидимые».
– Возможно ли! – воскликнула Скюдери, немного оправившись. – Возможно ли, что их дерзость простирается до такой степени?
Между тем солнце, проглянув в эту минуту сквозь красные шелковые оконные занавески, осветило разложенные на столе бриллианты пурпурным отблеском. Скюдери, увидев это, закрыла в ужасе лицо и немедленно приказала Мартиньер спрятать убор, на котором, как ей казалось, была кровь убитых жертв. Мартиньер, укладывая драгоценности обратно в ящичек, заметила, что, по ее мнению, следовало бы отнести их в полицию, рассказав вместе с тем и о таинственном появлении молодого человека в доме, и вообще обо всех загадочных обстоятельствах, которые сопутствовали получению бриллиантов.
Скюдери между тем в раздумье прохаживалась по комнате, теряясь в предположениях. Наконец, она приказала Батисту приготовить портшез[6], а Мартиньер – помочь ей одеться, и объявила, что немедленно отправляется к маркизе де Ментенон. Скюдери знала, что в этот час застанет маркизу одну. Садясь в портшез, она взяла с собой и ящичек с убором. Можно себе представить удивление Ментенон, когда вместо спокойной, полной достоинства и доброжелательности дамы, какой она привыкла видеть Скюдери, перед ней появилась бедная старушка, взволнованная и дрожащая.
– Что случилось, во имя самого Господа? – воскликнула Ментенон, поспешив навстречу почтенной особе, которая была расстроена до того, что с трудом дошла до середины комнаты и опустилась в пододвинутое маркизой кресло.
Немного оправившись, она поведала Ментенон о недостойной шутке, сыгранной с ней вследствие тех слов, которые она сказала с целью уколоть трусливых любовников. Ментенон, выслушав бедную Скюдери, прежде всего постаралась успокоить ее, говоря, что она слишком близко к сердцу принимает это приключение, что злая насмешка не может оскорбить или запятнать благочестивую душу, и, наконец, в заключение попросила показать ей бриллианты.
Скюдери подала ей открытый ящичек. Крик изумления вырвался из груди маркизы, едва она увидела поразительное богатство убора. Взяв ожерелье и браслеты, она подошла с ними к окну и заставила камни играть на солнце, любуясь чистотой и тонкостью работы. Окончив осмотр, Ментенон обратилась к Скюдери и сказала решительно:
– Убор этот, я твердо уверена, мог сделать только Рене Кардильяк.
Рене Кардильяк был тогда искуснейшим парижским ювелиром и в то же время одной из самых оригинальных личностей во всем городе. Маленького роста, но широкоплечий и мускулистый, Кардильяк, несмотря на то что ему было уже около пятидесяти лет, сохранил всю силу и подвижность юноши. О силе этой свидетельствовали и его жесткие, рыжие волосы без малейшей седины, и коренастое сложение. Не будь Кардильяк известен во всем Париже как честнейший, бескорыстнейший, открытый и всегда готовый помочь человек, его фигура и в особенности взгляд зеленых, глядевших исподлобья глаз наверняка навлекли бы на него подозрение в злобе и коварстве.
Итак, Кардильяк был искуснейшим ювелиром не только в Париже, но и – как утверждали многие – в целом мире. Глубокий знаток драгоценных камней, он умел шлифовать их и группировать с таким неподражаемым искусством, что часто убор, прежде ничем не примечательный, выходил из его мастерской совершенно неузнаваемым и непревзойденным по своей красоте. Каждый заказ он принимал с горячим рвением истинного художника и всегда брал за свою работу крайне умеренную, по сравнению с ее достоинством, плату. Взяв заказ, Кардильяк не знал покоя ни днем ни ночью. Он без устали стучал своим молотком, и часто случалось, что, почти окончив работу, вдруг находил, что какое-нибудь ничтожное украшение не соответствует общей форме или что какой-нибудь бриллиант не так вправлен. Этого было для него достаточно, чтобы бросить все в плавильный тигель[7] и начать работу заново. Таким образом, всякая вещь выходила из его рук верхом совершенства, изумляя самых придирчивых заказчиков.
Но была у Кардильяка одна неприятная особенность. Дело в том, что заказчику стоило неимоверного труда забрать у мастера готовую вещь. Целые недели и месяцы он оттягивал под разными предлогами выдачу вещи, обманывая заказчиков. И даже когда, почти принужденный силой, он отдавал, наконец, сделанный убор владельцу, то делал это с таким отчаянием и даже затаенной яростью, что стоило взглянуть на его лицо, чтобы убедиться, какого горя стоило ему расстаться со своим произведением. Когда же ему приходилось отдавать какое-нибудь особенно богатое украшение, стоившее многих тысяч, как по достоинству камней, так и по тонкости золотой работы, то он становился похож на помешанного: бранился, выходил из себя, проклиная и заказчиков, и свои труды.
Если случалось, что кто-нибудь заказывал ему новую работу со словами: «Любезный Кардильяк! Сделайте-ка хорошенькое ожерелье для моей невесты или браслеты для моей девочки», – и тому подобное, то Кардильяк, сверкнув своими маленькими глазками, говорил, потирая руки: «А ну, покажите, покажите, что у вас такое?»
Когда же заказчик, вынув футляр, продолжал: «Конечно, в этих камнях нет ничего особенного, но я надеюсь, что в ваших руках…» – то Кардильяк даже не давал ему окончить фразу. Он быстро хватал бриллианты, действительно стоившие не очень дорого, рассматривал их на свету и в восторге восклицал: «Ого! Это, по-вашему, ничего особенного? Такие камни! Погодите, погодите! Вы увидите, что я из них сделаю. Если вы только не пожалеете лишней горсти луидоров, то я прибавлю к ним еще камешка два, и тогда убор ваш засверкает, как само солнце!» – «Извольте, извольте, господин Рене, – говорил заказчик, – я заплачу столько, сколько вам будет угодно!»
Тогда Кардильяк, не обращая внимания на то, какого звания и происхождения был заказчик, бросался ему на шею, душил в своих объятиях, называл себя счастливейшим в мире человеком и обещал непременно окончить работу за восемь дней. Затем он бежал сломя голову домой, запирался в мастерской, начинал стучать и работать, и через восемь дней образцовое произведение было действительно готово. Но едва заказчик являлся получить свою вещь и заплатить условленную умеренную плату, Кардильяк становился груб, дерзок и объявлял решительно, что не может отдать свой труд в этот день.
«Но подумайте сами, Кардильяк, – говорил изумленный заказчик, – ведь завтра день моей свадьбы». – «Какое мне дело до вашей свадьбы! – запальчиво возражал Кардильяк. – Приходите через две недели». – «Убор готов, вот деньги, и я его забираю», – говорил заказчик. «А я, – отвечал Кардильяк, – говорю вам, что должен кое-что в нем переделать и сегодня вам его не отдам». – «Так знайте же, что если вы не согласитесь отдать мне убор, за который я готов заплатить вам вдвое больше, то через четверть часа я вернусь с жандармами Аржансона». – «Ну и берите, и пусть сам сатана вцепится в вас своими калеными когтями да вдобавок привесит к убору трехцентнеровую гирю, чтобы она задавила вашу невесту!»
С этими словами Кардильяк, сунув убор в карман жениху, так бесцеремонно выталкивал его из дверей, что тот иной раз пересчитывал собственными боками ступеньки лестницы, а Кардильяк со злобным смехом смотрел в окно, как несчастный, зажав лицо платком, старался унять кровь из разбитого носа. Совершенно непонятным было, почему Кардильяк, взяв иной раз с восторгом работу, потом вдруг со слезами, на коленях молил заказчика уступить вещь ему.