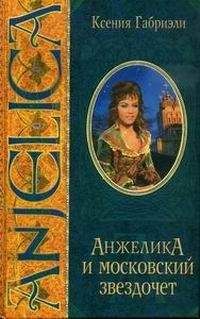Скюдери, глубоко растроганная несчастьем Мадлен и склонная сама считать Оливье невиновным, немедленно стала собирать сведения. Прислуга, соседки – словом, все единодушно подтвердили, что Оливье всегда был честным и прилежным учеником. Никто не мог сказать против него дурного слова, но, едва речь заходила о том, кто же совершил злодеяние, все с сомнением качали головами и признавались, что тут кроется какая-то страшная тайна.
Оливье, приведенный к допросу перед chambre ardente, твердо отвергал, как узнала Скюдери, возводимое на него обвинение, утверждая, что на Кардильяка напали на улице на его глазах и что он принес его еще живым домой, где тот вскоре умер. Таким образом, и это показание совершенно совпадало с рассказом Мадлен. Скюдери беспрестанно заставляла Мадлен повторять все малейшие, какие она только могла припомнить, подробности несчастного случая. Так, она выспрашивала у девушки, не произошло ли в последнее время между Оливье и Кардильяком какой-нибудь ссоры.
Но чем живее Мадлен описывала мир и согласие, в которых жили они трое, тем меньше Скюдери подозревала в преступлении Оливье. Допуская даже мысль, что, несмотря на все ею услышанное, убийцей Кардильяка был все-таки Оливье, Скюдери и в этом случае не могла найти ни одной причины, которая побудила бы его совершить это преступление, – оно не принесло бы Оливье выгоды, а, напротив, расстроило бы его собственное счастье.
И действительно, он был беден, но трудолюбив. Благодаря последнему качеству ему удалось заслужить расположение богатого хозяина, чью дочь он любил. Хозяин благосклонно относился к этой любви, довольство и счастье ожидали Оливье впереди. Если даже предположить, что в порыве гнева Оливье действительно убил своего благодетеля и будущего отца, то какое же чудовищное должен он был иметь сердце, чтобы так упорно потом отпираться от того, что он совершил! Окончательно убежденная в невиновности Оливье, Скюдери дала себе слово во что бы то ни стало спасти бедного юношу.
Обдумывая, как это сделать, она пришла к заключению, что, прежде чем обращаться с просьбой о милости непосредственно к королю, следовало поговорить с Ларенье и сообщить ему все обстоятельства в пользу подсудимого, а затем повлиять через председателя и на судей.
Ларенье принял Скюдери с глубочайшим уважением, на что она, впрочем, имела полное право рассчитывать, так как ее высоко чтил сам король. Председатель спокойно, с едва заметной насмешливой улыбкой выслушал все, что Скюдери говорила о преступлении и о характере обвиненного в нем Оливье. Ее речь была весьма красноречивой и трогательной, она со слезами на глазах распространялась о том, что судья не должен быть врагом обвиняемого, что стоит обратить внимание и на благоприятные для него стороны дела. Когда Скюдери, наконец, окончила свою речь и отерла слезы, блестевшие на ее глазах, Ларенье заговорил:
– Я прекрасно понимаю, милостивая государыня, что ваше доброе сердце, тронутое слезами молоденькой любящей девушки, верит всему, что она говорит. Но совершенно иначе должен рассуждать судья, привыкший срывать маску с гнуснейших преступлений. Я не имею права открывать кому бы то ни было хода уголовных процессов. В этом деле я лишь исполняю свою обязанность и не забочусь о том, что скажет о моих действиях свет. Chambre ardente не знает иных наказаний, кроме огня и крови, и злодеи должны трепетать перед ее приговорами, но в ваших глазах, сударыня, я не желаю прослыть извергом и чудовищем и потому объясню вам в нескольких словах неоспоримость преступления молодого злодея, который не избежит заслуженного наказания. Ваш проницательный ум, я уверен, осозна`ет тогда всю неуместность вашего заступничества, которое делает честь вашему доброму сердцу, но мною принято в соображение быть не может.
Итак, я начинаю. Утром того несчастного дня Кардильяк был найден убитым – он умер от раны, нанесенной ему кинжалом. Никого при этом с ним не было, кроме подмастерья Оливье и дочери. При обыске в комнате Оливье нашли кинжал, покрытый свежей кровью, лезвие которого сопоставимо с раной убитого. Оливье уверяет, что на Кардильяка напали ночью на его глазах. Доказательств этому нет. Напротив, естественным образом возникает вопрос: если Оливье был с ним, то почему же он его не защищал? Почему не задержал убийцу? Почему не кричал о помощи? Он объясняет, что Кардильяк шел перед ним в пятнадцати или двадцати шагах. Почему так далеко? «Так хотел Кардильяк», – уверяет подсудимый. А зачем Кардильяк так поздно вышел на улицу? Этого подсудимый не знает. Но ведь прежде Кардильяк никогда не выходил позже девяти часов? Вопрос этот приводит Оливье в смущение, он начинает плакать, вздыхать, снова принимается уверять, что в ту ночь Кардильяк действительно вышел и был убит.
Но тут, заметьте, в дело вступает новая улика: доказано, что Кардильяк и не думал выходить той ночью из дома, и потому показание Оливье становится очевидной ложью. Дверь его квартиры запирается тяжелым замком, который при каждом открытии и закрытии производит сильный шум, да и сама дверь поворачивается на тяжелых петлях с таким скрипом, что, согласно проведенному опыту, скрип этот ясно слышен на верхнем этаже дома. На нижнем этаже, как раз возле двери, живет старый Клод Патрю со своей экономкой, очень деятельной и веселой женщиной, несмотря на то что ей почти восемьдесят лет. И он, и она слышали, как Кардильяк в тот вечер по заведенному порядку поднялся наверх ровно в девять часов, запер с обыкновенным шумом дверь, заложив ее засовом, потом громко прочел вечернюю молитву и затем, насколько можно было судить по стуку дверей, прошел в свою спальню.
Клод Патрю, подобно всем старым людям, страдает бессонницей. В ту ночь он, по обыкновению, не мог сомкнуть глаз. Экономка сообщила, что около половины десятого она вышла из кухни, зажгла свечу, села к столу с господином Клодом и стала читать старую хронику, между тем как старик то садился в свое кресло, то опять вставал и прохаживался но комнате, думая, что так быстрее нагонит на себя сон. По словам обоих, в доме до полуночи царила ничем не нарушаемая тишина. Но тут вдруг послышались торопливые шаги, сначала на лестнице, а потом и в верхней комнате. Затем что-то тяжелое и мягкое вдруг глухо упало на пол, и вместе с тем послышался продолжительный, жалобный стон. Страх и подозрение, что совершилось какое-нибудь злодейство, закрались в душу Патрю и его экономки. Наступившее утро доказало, что подозрение это было вполне основательно.
– Однако, – возразила Скюдери, – скажите мне, ради бога, неужели после всего, что вам сообщила я, вы можете найти хотя бы малейший повод, который мог побудить Оливье совершить это злодейство?
– Кардильяк, во-первых, был богат, его камни славились своей ценностью…
– Но ведь все это в любом случае досталось бы его дочери, а Оливье, вы знаете сами, должен был на ней жениться!
– Что ж за беда! – пожал плечами Ларенье. – Вероятно, что Оливье должен был с кем-нибудь поделиться добычей, а может быть, и совершить убийство в сообщничестве с другими.
– Поделиться!.. В сообщничестве с другими! – в ужасе повторила Скюдери.
– Оливье, – продолжал Ларенье, – давно был бы уже казнен на Гревской площади, если бы мы не подозревали, что его преступление связано с рядом тех злодейств, которые в последнее время наводят страх на Париж. Оливье, судя по всему, принадлежит к той проклятой шайке злодеев, которым, несмотря на всю нашу бдительность, удавалось до сих пор оставаться безнаказанными и поднимать правосудие на смех. Но через Оливье мы узнаем все! Рана Кардильяка подобна тем, от которых умирали жертвы негодяев, как в домах, так и на улицах. Но яснее всего говорит в пользу моих предположений то, что после ареста Оливье Брюссона убийства и грабежи совершенно прекратились, и теперь парижские улицы безопасны ночью точно так же, как и ясным днем. Это веское доказательство того, что Оливье, без сомнения, стоял во главе шайки. Он, правда, пока еще от этого отпирается, но есть средства заставить негодяя заговорить и против его воли.
– А Мадлен! – воскликнула Скюдери. – Что будет с этой несчастной, невинной девочкой?
– Что до Мадлен, – с язвительной усмешкой сказал Ларенье, – то, признаюсь, я сильно подозреваю ее в сообщничестве с Оливье. Припомните, что над трупом убитого отца она плакала только об арестованном любовнике!
– Что вы говорите! – возмутилась Скюдери. – Убить отца! И вы подозреваете в этом такого ребенка!
– Вспомните Бренвилье! – холодно возразил Ларенье. – В любом случае я заранее прошу у вас прощения, если в ближайшем будущем буду поставлен в необходимость забрать у вас эту девочку и отправить ее в Консьержери.
Скюдери была совершенно вне себя. Ей казалось, что в сердце этого ужасного человека не было места для веры в привязанность и добродетель и что во всем он видел лишь достойные жестокой казни преступления.