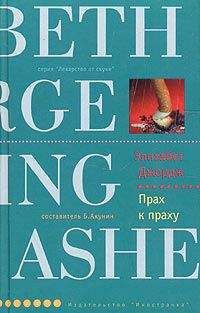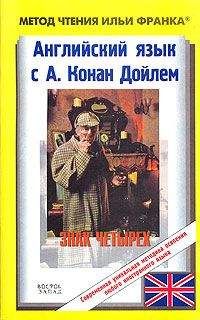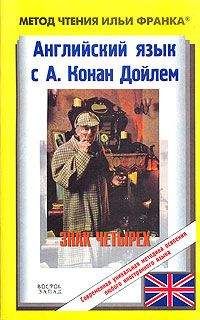— Он уходит от жены, если вам так уж нужно знать, — заявила я и захлопнула дверь. И старательно заперла ее.
Какое-то время они стучали. По крайней мере, мать. Я слышала, как папа говорил тихим голосом, который разносился далеко вокруг:
— Хватит, Мириам.
В комоде я разыскала новую пачку сигарет. Закурила, налила себе еще выпить и ждала, пока они устанут и отвалят. И все это время я думала о том, что скажу и что сделаю, когда явится Ричи, и как я поставлю его на колени.
У меня была сотня сценариев, и все они заканчивались мольбами Ричи о пощаде. Но он две недели не приходил в «Коммодор». Каким-то образом он обо всем узнал. А когда он наконец пришел, я уже три дня как знала, что беременна.
Небо сегодня чистое — не видно ни облачка, — но не голубое, и я не знаю, почему. Не помню, когда я в последний раз видела по-настоящему голубое небо, и это меня тревожит. Возможно, солнце уничтожает голубизну, сначала обугливая небо по краям, как огонь поедает лист бумаги, а потом с нарастающей скоростью продвигаясь к центру, пока в конце концов над нами не останется вращающийся белый огненный шар, мчащийся к тому, что уже стало углем.
Крис работает над карнизом для дома в Куинс-парке. Это очень легкая работа, потому что карниз деревянный, а Крис, как правило, предпочитает работу с этим материалом работе с гипсом. Он говорит, что гипс его нервирует.
— Господи, Ливи, кто я такой, чтобы касаться потолка РобертаАдама? — говорит он.
Поначалу я думала, что это ложная скромность, учитывая, сколько людей просят его заняться их домом, как только распространяется слух, что облагораживают еще один дом по соседству, но это было до того, как я познакомилась с Крисом поближе. Я считала его человеком, который сумел очистить от паутины сомнений все углы своей жизни. Со временем я узнала, что эту личину он надевает, когда надо проявить власть. Настоящий Крис такой же, как все мы — мучается неуверенностью. У него есть темная маска, которую он цепляет, когда этого требует ситуация. Однако в светлое время, когда власть, на его взгляд, не нужна, он такой, какой есть.
Сперва мне хотелось больше походить на Криса. Даже когда я жутко на него злилась — в начале, когда затаскивала других парней на баржу с этой мерзкой, нарочитой своей улыбочкой и трахала их до потери пульса, и чтобы Крис наверняка знал, что я делаю и с кем, — я все равно хотела быть, как он. Мне страстно хотелось поменяться с ним телом и душой. Мне хотелось чувствовать себя свободной, чтобы вывернуться наизнанку и сказать: «Вот я какая под всей этой бравадой», совсем как Крис, а так как сделать этого я не могла, потому что не могла быть им, я пыталась его обидеть. Я стремилась довести его до крайности и дальше. Я хотела погубить его, потому что тогда доказала бы, что весь его образ жизни — ложь. А мне нужно было все свести к этому.
Мне стыдно за себя как за человека. Крис говорит, что стыдиться бессмысленно.
— Ты была такой, какой пришлось быть, Ливи, — говорит он. — Смирись с этим.
Но у меня не получается. Каждый раз, когда я, как мне кажется, готова разжать руку, растопырить пальцы и позволить памяти уйти, как воде в песок, что-то отвлекает меня и останавливает. Иногда это услышанная музыка или женский смех, пронзительный и фальшивый. Иногда кислый запах залежавшегося, невыстиранного белья. Иногда выражение гнева на чьем-нибудь лице или мутный взгляд отчаянной тоски, брошенный на тебя незнакомцем. А кроме того, я против своей воли отправляюсь в путешествия, меня уносит назад во времени и приводит к порогу той личности, которой я была.
— Я не могу забыть, — говорю я Крису, особенно когда бужу его из-за судорог в ногах и он, сопровождаемый Бинзом и Тостом, приходит ко мне в комнату со стаканом теплого молока и настаивает, чтобы я его выпила.
— Тебе и не нужно забывать, — говорит он, а собаки устраиваются на полу у его ног. — Забвение означает, что ты боишься учиться у прошлого. Но простить придется.
И я пью молоко, хотя не хочу, обеими руками поднося стакан ко рту и стараясь не стонать от боли. Крис замечает. Он массирует меня. Мышцы снова расслабляются.
Когда это происходит, я извиняюсь.
— За что ты извиняешься, Ливи? — спрашивает он. Хороший вопрос. Когда Крис его задает, для меня он словно та музыка, смех, белье, вид лица, случайный взгляд. И я снова путешественница, которую тянет назад, тянет назад, чтобы посмотреть, кем я была.
Беременная в двадцать лет. Я называла свой плод «это». В первую очередь я воспринимала его не как растущего внутри меня ребенка, а как неудобство. Ричи воспользовался этим как предлогом, чтобы слинять. Он был достаточно великодушен, чтобы оплатить счет в гостинице прежде чем исчезнуть, но не настолько великодушен, чтобы не сообщить портье, что отныне я официально «самостоятельна». Я сожгла достаточно мостов между собой и персоналом
«Коммодора». Так что они были только рады выставить меня.
Оказавшись на улице, я выпила кофе и съела сосиску с булочкой в кафе напротив станции метро «Бейсуотер». И прикинула все варианты. Я пялилась на знакомый красно-бело-синий знак подземки, пока его роль избавителя от всех моих зол не стала очевидной. Вот он, вход на Кольцевую линию и на линию «Дистрикт», в каких-то тридцати ярдах от того места, где я сидела. И всего в двух остановках на юг была станция «Хай-Стрит-Кенсингтон». Какого черта, подумала я. И тогда же и там же решила: самое меньшее, что я могу дать в этой жизни своей матери — это шанс оставить роль всеобщей матери-благодетельницы в обмен на практическую помощь родной дочери. Я поехала домой.
Вы недоумеваете, почему они приняли меня. Видно, вы из тех, кто никогда, даже на мгновение, не огорчал своих родителей, да? Поэтому, вероятно, вы и не в состоянии постичь, почему такую, как я, все равно пустят назад. Вы забыли главное определение дома: место, куда вы идете, стучите в дверь, изображаете раскаяние, и вас впускают. А как только вы оказываетесь внутри, то сразу, не распаковываясь, выкладываете ту дурную новость, которая и привела вас домой.
Я два дня не говорила матери о беременности, и выбрала момент, когда она проверяла тетради своего английского класса. Она сидела в столовой, в передней части дома. На столе перед ней высились три стопки работ, а рядом с локтем дымился чайник, в котором был заварен чай «Дарджилинг». Я взяла лежавшую сверху тетрадь и лениво прочла первое
предложение. До сих пор его помню: «Исследуя характер Мэгги Тулливер, читатель размышляет над тонким различием между судьбой и роком». Какие пророческие слова.
Я бросила тетрадку на место. Не поднимая головы, мать посмотрела на меня поверх очков.
— Я беременна, — сказала я.
Она положила карандаш. Сняла очки. Налила чаю. Не добавила ни молока, ни сахара, но все равно помешала в чашке.
— Он знает?
— Это очевидно.
— Почему очевидно?
— Ну он же сбежал. Она сделала глоток чая.
— Понятно.
Взяла карандаш и постучала им по мизинцу. Чуть улыбнулась. Покачала головой. В ушах у нее были сережки в форме скрученных веревочек и такая же цепочка на шее. Я помню, как все они поблескивали на свету.
— Что? — спросила я.
— Ничего, — сказала она. Еще глоток чая. — Я думала, что ты образумилась и порвала с ним. Я думала, поэтому ты и вернулась.
— Какая разница? Все кончено. Я вернулась. Разве это плохо?
— Что ты собираешься теперь делать?
— С ребенком?
— Со своей жизнью, Оливия.
Я ненавидела этот ее назидательный тон и сказала:
— Это уж мое дело. Может, я оставлю ребенка. Может, нет.
Я знала, что собираюсь делать, но хотела, чтобы предложение исходило от нее. Она столько лет изображала из себя великое воплощение Общественной Совести, что я испытывала потребность сорвать с нее маску.
— Мне нужно об этом подумать, — сказала она и вернулась к своим тетрадям.
— Как угодно, — ответила я и пошла из комнаты. Когда я проходила мимо ее стула, она задержала меня, выставив руку и положив ее на мгновение — я думаю, ненамеренно, — на мой живот, внутри которого рос ее внук.
— Твоему отцу мы говорить не будем, — произнесла она. И я поняла, что она хочет сделать.
Я пожала плечами:
— Сомневаюсь, что он понял бы. Папа хоть знает, откуда берутся дети?
— Не издевайся над своим отцом, Оливия. Он более мужчина, чем тот, кто бросил тебя.
Двумя пальцами я сняла ее руку со своего тела и вышла из комнаты.
Я слышала, как она встала и подошла к серванту; открыла ящик и покопалась в нем. Потом прошла в маленькую гостиную, набрала какой-то номер и начала разговор.
Она договорилась о приеме через три недели. Умно с ее стороны. Она хотела потомить меня. А пока мы разыгрывали что-то среднее между нормальной семейной жизнью и вооруженным перемирием. Неколько раз мать пыталась завести со мной речь о прошлом, в основном заполненном Ричи Брюстером, и о будущем — о возвращении в Гертон-колледж. Но о ребенке она не упомянула ни разу.