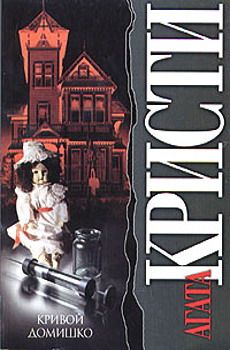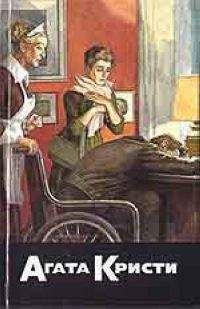Я проглотил это оскорбление.
— О'кей, — сказал я. — Я Ватсон. Но даже Ватсону предоставлялись исходные данные.
— Чего-чего? — Факты. А он из них выводил разные ошибочные заключения. Несколько мгновений Джозефина боролась с соблазном. Потом отрицательно потрясла головой:
— Нет. — И добавила: — И вообще, я не особо увлекаюсь Шерлоком Холмсом. Он ужасно устарел. Представляете, в то время ездили в кэбах?
— А что эти письма? — спросил я.
— Какие письма?
— Письма, которые, как ты говорила, Лоуренс Браун и Бренда пишут друг другу.
— Я это придумала, — сказала Джозефина.
— Я тебе не верю.
— Да. Придумала. Я часто придумываю всякую всячину. Развлекаюсь таким образом.
Я уставился на нее. Она уставилась на меня.
— Послушай, Джозефина. У меня есть один знакомый, который работает в Британском музее. Он знает все-все про Библию. Если я у него узнаю, почему собаки не съели кисти рук Иезавели, ты расскажешь мне о письмах?
На этот раз Джозефина заколебалась по-настоящему.
Где-то поблизости громко треснула сухая ветка. Наконец Джозефина решительно произнесла:
— Нет, не расскажу.
Я вынужден был смириться с поражением. Несколько запоздало я вспомнил совет отца.
— Ну ладно, — сказал я. — Все это всего лишь игра. Конечно, ты просто ничего не знаешь.
Джозефина яростно сверкнула на меня глазами, но не поддалась искушению.
Я поднялся со скамейки.
— Мне надо идти искать Софию. Пойдем.
— Я останусь здесь, — сказала Джозефина.
— Нет, не останешься. Ты пойдешь со мной.
Я бесцеремонно поднял ее и поставил на ноги. Девочка, казалось, удивилась и хотела было запротестовать, но сдержалась — отчасти, несомненно, потому, что была не прочь понаблюдать за реакцией домашних на мое появление.
В тот момент я и сам не смог бы объяснить, почему настаиваю на том, чтобы Джозефина непременно пошла со мной. Я понял это только когда мы уже входили в дом.
Меня насторожил резкий треск сухой ветки.
Из большой гостиной доносился приглушенный шум голосов. Я поколебался, но прошел мимо и, повинуясь какому-то импульсу, открыл дверь, ведущую на половину слуг, и оказался в темном коридоре. Внезапно одна из выходящих в коридор дверей распахнулась, и в освещенном проеме появилась полная пожилая женщина в белоснежном накрахмаленном фартуке. При виде нее у меня сразу же возникло чувство покоя и уверенности, какое всегда возникает в присутствии старой доброй няни. Мне тридцать пять, но внезапно я ощутил себя четырехлетним мальчиком, надежно защищенным от всех невзгод. Нэнни никогда раньше меня не видела, но сразу же сказала:
— Это мистер Чарлз, не так ли? Заходите на кухню, я угощу вас чайком. Кухня была просторная, светлая, с веселыми занавесками на окнах. Я сел за стоящий посередине стол, и Нэнни поставила передо мной чашку чая и блюдечко с двумя пирожными. Больше чем когда-либо в жизни я почувствовал себя маленьким ребенком в уютной детской. Здесь царили доброта и спокойствие — и страх темноты и ночные ужасы оставили меня.
— Мисс София очень обрадуется вашему приходу, — сказала Нэнни. — Она чересчур возбуждена сегодня. — И добавила осуждающе: — Все они чересчур возбуждены.
Я оглянулся через плечо:
— А где Джозефина? Она вошла в дом вместе со мной.
Няня неодобрительно поцокала языком.
— Вечно подслушивает под дверями и что-то записывает в этот дурацкий блокнот, который постоянно таскает с собой. Ей бы ходить в школу да играть со своими ровесниками. Я это говорила мисс Эдит, и она согласилась со мной, но хозяин решил, что девочку лучше держать дома.
— Наверное, он очень любит ее, — сказал я.
— Да, сэр. Он очень любил их всех.
Я несколько удивился тому обстоятельству, что чувства Филипа к своим отпрыскам так определенно относятся к прошедшему времени. Нэнни увидела выражение моего лица и, чуть покраснев, пояснила:
— Когда я говорю «хозяин», я имею в виду старого мистера Леонидиса.
Прежде чем я успел ей ответить, дверь распахнулась и в кухню вошла София.
— О, Чарлз… — выдохнула она и потом быстро проговорила: — Нэнни, как я рада, что он пришел!
— Знаю, золотко.
Нэнни нагрузила поднос кастрюлями и сковородками и отправилась в судомойную. Когда дверь за ней закрылась, я встал из-за стола, подошел к Софии, обнял ее за плечи и притянул к себе.
— Милая, — сказал я. — Ты вся дрожишь. В чем дело?
— Мне страшно, Чарлз. Страшно.
— Я люблю тебя, — сказал я. — Если бы только я мог забрать тебя отсюда…
София отстранилась и покачала головой:
— Нет, это невозможно. Мы должны пройти через все это. Но, Чарлз, как тяжело знать наверняка, что… кто-то в этом доме… кто-то, с кем я вижусь и разговариваю каждый день, является хладнокровным расчетливым убийцей…
Я ничего не мог ответить на это. Такая девушка, как София, не нуждается в пустых, ничего не значащих словах утешения.
— Если бы только знать… — прошептала она. — Больше всего меня пугает, что мы можем не узнать никогда…
Да, это действительно было страшно представить… И действительно существовала возможность так никогда и не узнать имени убийцы.
И тут я вспомнил, что хотел задать Софии один вопрос на интересующую меня тему.
— Скажи, София, а кто в доме знал об этих глазных каплях, об эзерине? То есть, первое, что они у дедушки есть и, второе, что они смертельно ядовиты?
— Понимаю, куда ты клонишь. Но это бесполезно. Об этом знали все.
— Да, конечно, вообще знали все… Но конкретно…
— Мы все знали конкретно. Как-то мы пили кофе у дедушки всей семьей. Он любил, когда вся семья собиралась вокруг него. Вдруг у него заболели глаза, и Бренда достала эзерин, чтобы закапать дедушке. А Джозефина, которая всегда и по любому поводу задает вопросы, спросила: «Почему на этикетке написано „Только для наружного употребления?“ А дедушка улыбнулся и ответил: „Если бы Бренда по ошибке ввела мне в вену вместо инсулина эзерин, пожалуй, я бы задохнулся от негодования, порядком посинел и затем умер, потому что, видишь ли, у меня не очень сильное сердце.“ — „О-о…“ — сказала Джозефина, а дедушка продолжал: „Так что мы должны внимательно следить за тем, чтобы Бренда не перепутала лекарства и не сделала мне инъекцию эзерина вместо инсулина“. — София помолчала и закончила: — Мы все это слышали, понимаешь? Мы все это слышали!
Я понимал. Если до сих пор у меня еще оставалась слабая надежда, что убийца должен был обладать какими-то специальными знаниями, то теперь оказалось: старый Леонидис самолично подсказал убийце план действий. Преступнику не нужно было ничего придумывать — простой и легкий способ умерщвления предложила ему сама жертва.
Я глубоко вздохнул. Прочитав мои мысли, София сказала:
— Да, это ужасно.
— Знаешь, София, — медленно проговорил я, — я понял одну вещь.
— Какую?
— Ты права: Бренда этого сделать не могла. Она не могла убить старика именно этим способом… После его слов, которые вы все слышали… И все прекрасно помните…
— Не знаю. Бренда довольно глупа в некоторых отношениях.
София отошла от меня.
— Тебе не хочется, чтобы это оказалась Бренда, да?
Что я мог ответить на этот вопрос? Я не мог, просто не мог заявить: „Нет. Я надеюсь, убийцей окажется Бренда“.
Почему? Не знаю, просто я видел: Бренда осталась совсем одна против враждебно настроенной могущественной семьи Леонидисов. Было ли это рыцарством? Жалостью к слабому, к беззащитному? Я вспомнил, как Бренда сидела на тахте в своем дорогом траурном платье. Вспомнил нотки безнадежности в её голосе и выражение страха в глазах.
Тут очень кстати вернулась Нэнни и, не знаю, каким образом, сразу же почувствовала возникшую между мной и Софией напряженность.
— Все только и говорят, об убийствах и тому подобном, — неодобрительно заворчала она. — Забудьте об этом, вот мой вам совет. Вас это дело совершенно не касается.
— О, Нэнни… Разве ты не понимаешь, в этом доме живет убийца…
— Чепуха, мисс София. Просто не знаю, что с вами делать. Разве передняя дверь не открыта все время? Да все двери в доме открыты… Свободный вход любым ворам и грабителям.
— Но ведь это не мог быть грабитель, ведь ничего не украдено! И вообще, зачем грабителю отравлять дедушку?!
— Я не сказала, что это был грабитель, мисс София. Я только сказала: все двери в доме всегда открыты. В дом легко мог войти любой человек. Я лично считаю — это дело рук коммунистов. — Нэнни покивала с удовлетворенным видом.
— Но чего ради коммунистам убивать бедного дедушку?
— Ну… За всеми темными делами стоят коммунисты. А если и не коммунисты, то по крайней мере нечестивые католики. Блудница Вавилонская — вот кто они такие. И с видом человека, сказавшего свое последнее и решительное слово, Нэнни снова отправилась в судомойную.