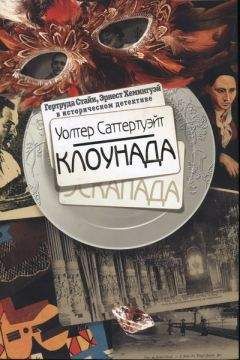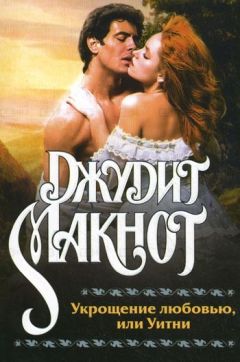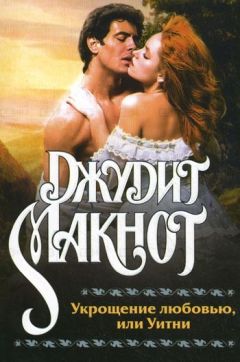— Вот-вот. Из ревности? Она ревновала его к этой немке?
— Вряд ли. Она ей не нравилась, верно. Но я не думаю, что она была настолько влюблена в Форсайта, чтобы ревновать.
— Она не знала о связи мсье Форсайта с Астер Лавинг?
— Она сказала, что никогда о ней не слышала. — Среди прочего я спросил ее и об этом, перед тем как от нее ушел.
— Зачем тогда ей понадобилось его убивать?
— Не знаю. Может, она потребовала назад свои стихи, а Форсайт отказался.
Ледок улыбнулся.
— Она же писательница, дружище. Наверное, она могла бы убить его, откажись он напечатать ее стихи. Но за то, что он собирался их издать? Не думаю.
— А что, если она передумала, испугалась, что читатели узнают, кто их написал?
— Но будь так, если стихи — настоящий мотив убийства, зачем она тогда вообще упоминала о них в разговоре с вами? А Роза Форсайт о них говорила?
— Нет, хотя Нортон об этом не знала.
— Но если мсье Форсайт не хотел возвращать ей стихи, зачем ему было приглашать ее в отель… Ах! Это Нэнси Канар. Из семьи судовладельцев. Очень богата. И привлекательна, а?
— Да.
— Ее так и тянет к неграм.
— Да?
— К великому сожалению, — добавил он.
— Сожалеете, что вы не негр?
Ледок засмеялся.
— Точно. — Он снова засмеялся и взглянул на меня с одобрением. — Думаю, ваши родители тоже были французы, mon ami. Причем оба.
Я улыбнулся.
Он отпил глоток своего рикара и поставил стакан на стол.
— Итак, Если мсье Форсайт решил не возвращать мадам Нортон ее стихи, зачем он пригласил ее в отель?
— А если не приглашал? Тогда, выходит, она сама его выследила.
Ледок поднял брови.
— Вот как. — Он откинулся назад и задумчиво поджал губы. — А может, он позвонил мадам Нортон прямо из номера.
Теперь я призадумался.
— Но с какой стати он ей звонил?
Ледок пожал плечами.
— Понятия не имею.
— Я тоже. Предположим, просто как вариант, что она его выследила.
— От самого дома Форсайтов?
— Ну да. Впрочем, не имеет значения. Выследила, и все. Предположим также, что она поступила хитро. Допустим, у нее был с собой пистолет Форсайта.
— Как вы до такого додумались?
— Она же побывала в библиотеке Форсайта за неделю до его смерти. И знала про пистолет. Знала, как и все, что он каждый божий день твердит о самоубийстве. И она решила взять пистолет.
— Довольно хитроумный ход с ее стороны.
— Она же сочиняет детективы. И довольно ловко подставила своего мужа.
— Верно. Тут я согласен. Она способна на любую хитрость. Поэтому вы и решили, что она могла выследить Форсайта и не ответила на его телефонный звонок. Да? Значит, по вашей теории, она спланировала все заранее, решив не ждать, когда Форсайт ей позвонит.
— Ну да.
— И мсье Форсайт за целую неделю так и не заметил, что у него пропал пистолет?
— Не знаю, — признался я. — Надо спросить у его жены.
— Ясно. Мадам Нортон следует за мсье Форсайтом до отеля. А что потом?
— Потом появляется Сабина фон Штубен. Нортон понимает, что немку нельзя оставлять в живых, поскольку она видела ее в номере, вот она и убивает ее.
— А потом они с мсье Форсайтом сидят два часа в номере, прежде чем она решает укокошить и его.
— Возможно, Форсайт пытался ее отговорить.
— Понятно. — Ледок вскинул брови. — Думаете, ваша теория звучит убедительно?
— Не очень.
Он засмеялся.
— Я тоже так думаю, mon ami. Почему вы пытаетесь убедить себя в виновности Сибил Нортон?
— Ничего я не пытаюсь. Наоборот, стараюсь исключить ее из круга подозреваемых.
— Похоже, у вас пока не очень получается.
— Верно.
Он улыбнулся.
— Пойдемте поищем, где поужинать.
Ледок взял у официанта счет, а я заплатил за выпивку.
Поужинали мы на другом берегу реки, недалеко от Оперы. Ресторан был красивый и элегантный: полированное дерево, изящная драпировка, белые льняные скатерти, свечи. Я заказал блюдо под названием carré d’agneau à la Bordelaise,[32] а на самом деле — обыкновенные ребрышки ягненка, fenouil cru el salade, сырой сладкий укроп под анчоусовым соусом.
Ледок заказал себе côtes de veau en casserole à la Dreux.[33]
— Берете большую телячью котлету, — объяснил он, когда ушел официант. — Нашпиговываете ее маринованным языком и трюфелями. Затем слегка обжариваете с обеих сторон на сливочном масле, пока она не прожарится. Потом укладываете на тарелку вместе с garniture financière.[34] Он делается из куриных кнелей, петушиных гребешков и грибов, все аккуратно перемешивается с sause financière.[35] Разумеется, соус готовится заранее — из нарезанной ветчины, грибов, трюфелей и мадеры.
— Петушиные гребешки, — заметил я.
— Да. Найти их все труднее и труднее.
— В самом деле?
— Теперь зачастую цыплят забивают раньше, чем у них отрастают гребешки.
— Надо же.
Ледок взглянул на меня и улыбнулся.
Еда была вкусной, вино — тоже достойно всяческих похвал. Это было «шато-марго» 1920 года разлива. Молодое, как заметил Ледок, но многообещающее.
Человек, следивший за нами, сидел в дальнем углу напротив. Не знаю, что он там себе заказал, но ему, судя по выражению его лица, нравилось. Пил он пиво, и тоже как будто с удовольствием.
Во время ужина говорил практически только Ледок. Я узнал, как готовить лягушачьи лапки à la meunière,[36] свиную вырезку с фисташками, индюшачьи потроха à la bourguignonne[37] и crêpes suzettes.[38] Мне бы все это, конечно, очень пригодилось, вздумай я сменить профессию.
Мы не возвращались к делу до тех пор, пока нам не принесли кофе и бренди.
— Однако тут вот что пришло мне голову, — сказал Ледок. — Насчет мадам Нортон.
— Что именно?
— Если она действительно как-то связана со смертью мсье Форсайта, зачем ей было вам рассказывать, что она была в отеле, когда раздался выстрел?
— Возможно, она боялась, что Роза Форсайт что-нибудь расскажет. Например, о том, что она ей звонила и сказала, что Ричард и фон Штубен мертвы.
— Но если бы она убила мужа…
— Верно. Зачем было звонить Розе? Я не знаю. Может, из чувства вины?
— Настолько сильного, что она была готова рисковать?
— Может, она смотрела на все по-другому. Поговорила с Лаграндом. Тот обещал ей свое покровительство. И пока расследованием занимались только парижские полицейские, ей нечего было опасаться.
Ледок кивнул.
— И все-таки кое-что меня волнует. Те два часа, что прошли между смертью фон Штубен и мсье Форсайта.
— Согласен. Меня это тоже волнует.
После ужина мы пошли на запад по бульвару Капуцинов, мимо здания Оперы, освещенного, как новогодняя елка, и свернули на узенькую улицу Капуцинов.
«Дыра в стене» оказалась именно тем, на что и указывало ее название, — тесным, забитым посетителями помещением с низким потолком и в клубах табачного дыма. За изрядно помятой оцинкованной стойкой, тянувшейся во всю длину пивной, метров на двенадцать, висело высокое зеркало с позолотой — благодаря ему помещение казалось шире, чем на самом деле, а кроме того, посетители, глянув в него, могли вовремя заметить, что кто-то подкрадывается к ним сзади.
Затхлый запах сигарет и сигар смешивался с запахом пота и старого пива и тяжелым ароматом дешевых духов. Несколько шатких деревянных столиков, полностью занятых, жались к деревянной обшивке стен, выкрашенных в цвет засохшей крови. Доски пола скрывались под толстым слоем опилок. Некоторые половицы под моей поступью прогибались.
В пяти минутах ходьбы, всего в двух кварталах отсюда элегантно одетые горожане вкушали телячьи котлеты, фаршированные трюфелями. Большинство же здешней публики, и мужчины, и женщины, выглядели так, будто они и в глаза не видели телячью котлету, не говоря уже о трюфелях. Глядя на некоторых посетителей, можно было подумать, что они вообще никогда не видели пищу.
Мы с Ледоком примостились за стойкой и заказали выпивку — коньяк.
— Не надейтесь, — заметил Ледок, — что жидкость в бутылке хотя бы отдаленно соответствует надписи на этикетке.
Бармен поставил стаканы на стойку, и Ледок спросил его о чем-то по-французски. Я разобрал только имя — Рейли. Бармен покачал головой и что-то сказал в ответ.
— Четыре франка, — перевел Ледок. — Он говорит, Рейли еще не появлялся.
Я порылся в кармане и выложил на стойку четыре франка. Кто-то похлопал меня по плечу.
Он был низенький и тощий, в длинной шерстяной пехотной шинели, потрепанной и сплошь заляпанной, и в рубашке, которая потеряла белизну еще в военное время, а может, и раньше. Ввалившиеся щеки были черными от щетины, а глубоко посаженные водянистые серые глаза обрамлены красными ободками. Выглядел, может, лет на двадцать пять, и казалось, до тридцати ему никак не дотянуть.