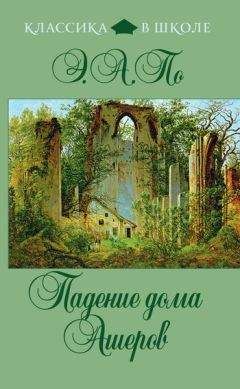Вниз – тихо и непреклонно маятник сползал вниз. Я находил какое-то исступленное удовольствие, сравнивая это движение вниз со скоростью его размахов. Вправо – влево – то удаляясь – то снова приближаясь – визжа, точно грешники в аду! Стопою тигра крадется он к моему сердцу! И я то хохотал, то выл – в зависимости от того, какие чувства брали верх.
Вниз, вниз – уверенно и безжалостно! Вот он уже проносится в трех дюймах от моей груди. Я извивался в своих путах бешено, неистово, чтобы высвободить левую руку. Она была свободна лишь от локтя до кисти. С большим трудом я мог двигать ею в пространстве между глиняной миской рядом со скамьей и моим ртом, – но не дальше. Если бы мне удалось разорвать путы, стягивающие локоть, я бы попытался схватить маятник, остановить его! С таким же успехом мог бы я остановить лавину.
Вниз, вниз – все так же упорно, все так же неотвратимо! Я задыхался и корчился при каждом взмахе, пытаясь вдавить свое тело в скамью, когда он проносился надо мною. Мой взор следовал за взлетами и падениями маятника с упорством и бессмысленностью предельного отчаяния; видя его приближение, я всякий раз судорожно жмурился, хотя смерть была бы блаженным избавлением – о! несказанно блаженным! И все же каждый нерв во мне трепетал при мысли о том, какое ничтожное движение механизма обрушит этот острый сверкающий топор на мою грудь. То была надежда: слыша ее голос, трепетали нервы… скамейка точно уходила в пол… То была надежда – та самая надежда, которая торжествует победу даже на дыбе и даже в застенках инквизиции шепчет осужденному на смерть слово утешения.
Я увидел, что еще десять-двенадцать взмахов, и сталь коснется моего платья; вместе с этим наблюдением ко мне пришла вся ясность, вся собранность, все спокойствие отчаяния. И впервые за много часов (а может быть, дней) я начал думать. Я вдруг сообразил, что подпруга или путы, которыми я обвит, – это цельный кусок. Я был связан одним-единственным ремнем. Первый же удар острого, как бритва, полумесяца, – при условии, что он заденет ремень, – рассек бы его, и я оказался бы в состоянии левой рукой распустить стягивающие меня витки. Но как ужасающе близко скользнет в этот миг сталь! Каким смертоносным может оказаться малейшее неверное движение! Да и мыслимое ли дело, чтобы подручные палача не предвидели, не предугадали такой возможности?! Есть ли хоть какая-нибудь вероятность, что ремень у меня на груди скрещивается с линией движения маятника? Страшась обмануться в моей слабой и, по-видимому, последней надежде, я приподнял голову настолько, чтобы получше разглядеть свою грудь. Тугие кольца «подпруги», охватывавшие мои конечности и туловище, шли во всех направлениях, – но на пути губительного полумесяца их не было.
Не успел я снова опустить голову, как вдруг меня осенило. Это была – я не могу описать ее иначе – зыбкая и бесформенная прежде половина того плана избавления, о котором я уже упоминал: другая его часть смутно проплыла в моем сознании, когда я подносил пищу к своим запекшимся губам. Теперь я держал в руках всю мысль полностью – пусть бледную, пусть едва ли здравую и не совсем отчетливую, но всю целиком, и тут же с лихорадочной энергией отчаяния приступил к ее исполнению.
Уже много часов пол вокруг низкой скамьи, на которой я лежал, буквально кишел крысами – хищными, наглыми, алчными: их красные глазки смотрели на меня пристально и свирепо, словно они были уверены, что добыча от них не уйдет, и только ждали, когда я перестану шевелиться. «Чем же они обычно питаются в этом подземелье?» – думал я.
Невзирая на все мои усилия их отогнать, они сожрали почти все, что было в миске, оставив лишь жалкие объедки. Я непрерывно размахивал рукою над миской, и в конце концов невольное однообразие этого движения лишило его всякой действенности. Прожорливые грызуны то и дело впивались мне в пальцы своими острыми клыками. Уцелевшими кусочками жирного, остро приправленного кушанья я густо натер ремень повсюду, куда только смог дотянуться; потом перестал махать рукой и оцепенел, затаив дыхание.
В первую минуту маленькие хищники были озадачены и испуганы этой переменой – внезапной неподвижностью их жертвы. В тревоге они отпрянули, многие юркнули в колодец. Но это длилось лишь минуту. Мои расчеты на их прожорливость оправдались. Заметив, что я по-прежнему недвижим, две или три из числа самых отчаянных вспрыгнули на скамью и принялись обнюхивать «подпругу». Это послужило как бы сигналом к общему нападению. Из колодца хлынули новые орды крыс. Они карабкались по ножкам деревянной скамьи, взбирались на нее, сотнями бегали по моему телу. Размеренное движение маятника нимало их не беспокоило. Увертываясь от ударов, они занялись смазанным жиром ремнем. Они теснили и сталкивали друг друга, их полчище все росло и росло. Они копошились у меня на шее, их холодные губы тыкались в мои губы, я уже задыхался под их тяжестью; чудовищное отвращение, которому нет имени на земном языке, стиснуло мне грудь и каким-то липким холодом заливало сердце. Но еще минута – и я понял, что дело идет к концу. Я отчетливо чувствовал, как ослабевают путы. Я знал, что в нескольких местах они уже, должно быть, разгрызены. И сверхчеловеческим усилием воли я заставил себя лежать неподвижно.
Я не ошибся в своих расчетах, и мое терпение не было тщетным! Наконец-то я почувствовал себя свободным. Обрывки ремня свисали на пол. Но маятник почти касался уже моей груди. Он рассек саржу халата, он разрезал белье; еще два размаха – и острая боль пронизала каждый мой нерв. Но миг спасения настал. Я шевельнул рукой, и мои избавители с шумом кинулись кто куда. Ровным движением – осторожно, медленно, вбок и назад – я выскользнул из тесных объятий ремня и стал недосягаем для кривого лезвия. Что бы ни случилось дальше, в этот миг я был свободен.
Свободен – и в когтях у инквизиции! Едва я поднялся со своего деревянного ложа – ложа ужаса! – и ступил на каменный пол темницы, как движение дьявольского механизма прекратилось, и какая-то невидимая сила подняла его вверх, через потолок. Это было уроком для меня, уроком, который наполнил мое сердце отчаянием. За каждым моим движением, несомненно, следят. Свободен! Ха! Я избежал мучительной смерти в одном из ее обличий лишь для того, чтобы увидеть иное, еще более страшное, чем сама смерть. С этой мыслью я обвел беспокойным взглядом железные плиты, которые скрывали меня от мира. Что-то новое, какое-то явное изменение, – сначала я не мог сообразить, какое именно, – произошло в обличии камеры. Дрожа от возбуждения, теряясь в бессвязных догадках, я на несколько минут погрузился в странную мечтательную рассеянность. Тут я впервые отдал себе отчет в том, откуда исходит тот фосфорический свет, озаряющий мою тюрьму. Он лился сквозь щель шириною вполдюйма, которая опоясывала всю камеру у самого основания стен; таким образом, стены, по-видимому, не были соединены с полом. Я попытался выглянуть через эту щель, но, разумеется, безуспешно.
Когда вслед за этим я снова выпрямился, загадочные перемены, происходившие вокруг, стали мне вдруг понятны. Я уже говорил, что, хотя очертания фигур на стенах были довольно отчетливы, краски казались потускневшими, расплывшимися. Теперь эти краски засверкали, и с каждым мигом их пугающий блеск становился все ярче, что придавало дьявольским, призрачным изображениям такой вид, который способен был привести в трепет и более крепкие нервы, нежели мои. Очи демонов, тысячи очей, с жуткою, чудовищной живостью пристально глядели на меня отовсюду, даже оттуда, где раньше не было видно ничего, и мерцали зловещим огнем, который мое воображение не в силах было представить себе нематериальным.
Нематериальным – как бы не так! До моих ноздрей уже доносилось дыхание раскаленного железа. Удушающие пары наполнили темницу. Все жарче разгорались глаза, неотступно следившие за моими страданиями. Все ярче становился багровый свет, заливавший кровавые фигуры на стенах. Я задыхался! Я судорожно ловил ртом воздух! Можно ли было еще сомневаться в намерениях моих палачей – о-о-о! самых безжалостных, самых неумолимых среди исчадий ада! Пятясь от раскаленного металла, я отступал к центру темницы. Среди дум об огненной гибели, которая меня ожидала, мысль о прохладе колодца пролилась на душу бальзамом. Я ринулся к его смертоносному краю. Я устремил свой истомившийся взор вниз. Сияние, исходившее от пламенеющей кровли, освещало самые укромные закоулки внутри колодца. И все же в продолжение какого-то мига дух мой, словно помутившись, отказывался постигнуть значение того, что я увидел. Но в конце концов оно пробилось… силой проложило себе путь в сознание… ожогом врезалось в мой содрогающийся рассудок! О! Язык мне не повинуется… О! Какой ужас… ужас, не сравнимый ни с чем на свете! С воплем я отпрянул назад и, спрятав лицо в ладони, зарыдал.