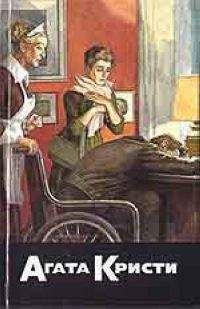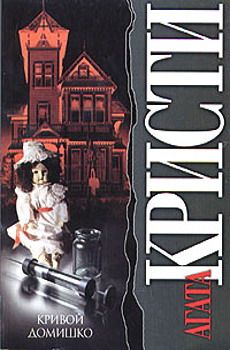Некоторое время наш разговор вертелся вокруг таких тем, как «Старый моряк» Чосера, политическая подоплека крестовых походов, средневековый подход к жизни и такой изумивший Юстаса факт, что Оливер Кромвель запретил празднование Рождества. Я обнаружил, что под высокомерием и раздражительностью Юстаса скрываются пытливый ум и незаурядные способности.
Вскоре я понял причину его дурного настроения. Мало того, что его болезнь была сама по себе тяжким испытанием, она была также источником отчаяния и причиной крушения надежд именно в тот период, когда он только начал получать удовольствие от жизни.
— В следующем семестре я бы уже окончил начальную школу… и стал бы носить цвета своего колледжа. Довольно мерзко себя чувствуешь, когда вынужден оставаться дома и брать уроки вместе с такой противной девчонкой, как Джозефина. Да ведь ей всего только двенадцать лет!
— Понимаю. Но ведь вы, наверное, изучаете не одни и те же предметы?
— Ну, конечно, она не изучает высшую математику… или латынь. Но разве приятно учиться у одного и того же учителя вместе с девчонкой?
Я попытался пролить бальзам на его оскорбленное мужское достоинство, заметив, что Джозефина кажется весьма разумным ребенком для своего возраста.
— Вы так думаете? А мне вот кажется, что она ужасно глупая. Она безумно увлекается детективными историями… слоняется повсюду и во все сует нос, а потом записывает все в черную записную книжечку и делает вид, что много чего обнаружила. Просто глупый ребенок — вот что она такое, — с чувством превосходства заявил Юстас. — Как бы то ни было, а девчонки не могут быть сыщиками, — добавил он. — Я ей так и сказал. Мне кажется, что мама совершенно права и что чем скорее Джо отправится в Швейцарию, тем лучше.
— Неужели ты не будешь по ней скучать?
— Скучать по ребенку такого возраста?! — высокомерно воскликнул Юстас. — Конечно же, не буду. Бог мой, жизнь в этом доме — сущий ад! Мама без конца ездит в Лондон и, запугивая несчастных драматургов, заставляет их переделывать пьесы, подстраиваясь под нее, устраивает ужасные скандалы без всякого повода. А папа с головой погружается в свои книги и иногда даже не слышит, если к нему обращаешься. Не знаю, за какие грехи мне достались такие нелепые родители! Или возьмем дядю Роджера… он всегда такой безумно дружелюбный, что делается жутко до дрожи. Тетя Клеменси ничего себе, она хоть и тормошит людей, но иногда мне кажется, что она немножко не в себе. Тетя Эдит неплохая, но она старуха. Здесь немножко повеселее стало, когда вернулась София… хотя иногда она бывает резковата. А вам не кажется, что у нас довольно странная семья? Где это слыхано, чтобы бабушка по возрасту годилась человеку в тети или старшие сестры? Я хочу сказать, что из-за этого чувствуешь себя каким-то ужасным ослом!
Я отчасти понимал его чувства. Я помнил, хотя и смутно, какой чрезмерной чувствительностью отличался в возрасте Юстаса. Помнил, какой ужас охватывал меня при мысли, что могу показаться не таким, как все, или что мои ближайшие родственники могут чем-нибудь выделиться среди других.
— А твой дедушка? — спросил я. — Ты его любил?
При этих словах на лице Юстаса промелькнуло странное выражение.
— Дедушка, — заявил он, — был явно антисоциальным типом.
— В чем же это выражалось?
— Его ничего не занимало, кроме извлечения прибыли. Лоренс говорит, что это просто преступно. К тому же он был величайшим индивидуалистом. А со всем этим нужно беспощадно расправляться, разве не так?
— Ну вот, — сказал я довольно жестоко, — с ним и расправились.
— По правде сказать, это даже к лучшему. Я не хотел бы показаться бессердечным, но в таком возрасте едва ли можно наслаждаться жизнью!
— Разве он не имел радостей в жизни?
— Едва ли. Как бы то ни было, ему было уже пора уходить из жизни. Он…
Юстас замолчал, потому что в этот момент в классную комнату возвратился Лоренс Браун.
Лоренс начал копаться в книжках, но мне показалось, что он краешком глаза наблюдает за мной.
Он взглянул на наручные часы и сказал:
— Пожалуйста, Юстас, возвращайтесь точно в одиннадцать. За последние несколько дней мы потеряли слишком много времени.
— О’кей, сэр.
Юстас вразвалку направился к двери и вышел, насвистывая что-то.
Лоренс Браун бросил на меня настороженный взгляд и облизал пересохшие губы. Я был убежден, что он возвратился в классную комнату исключительно для того, чтобы поговорить со мной.
Несколько раз бесцельно переложив с места на место какие-то книги и делая вид, что что-то ищет и не может найти, он наконец заговорил:
— Э-э-э… Ну и как у них идут дела?
— У них?
— Я имею в виду полицию.
Нос его дернулся, и мне показалось, что он стал похож на попавшую в мышеловку мышь.
— Они не делятся со мной своими секретами, — сказал я.
— Ах так? А мне показалось, что ваш отец — заместитель комиссара.
— Так оно и есть, — сказал я. — Но он, естественно, не разглашает служебных тайн.
Я умышленно постарался придать своему голосу высокомерие.
— Значит, вы не знаете, как… что… если… — запинаясь, пробормотал он. — Они не собираются производить арест, а?
— Насколько мне известно, пока не собираются. Но, как уже сказал вам, я могу и не знать об этом.
«Заставьте их забегать, — сказал мне инспектор Тавенер. — Припугните их». Ну, что касается Лоренса Брауна, то он был явно напуган не на шутку.
Он заговорил торопливо и сбивчиво:
— Вы и представить себе не можете, как все это тяжело… Такое напряжение… и полная неизвестность. Я хочу сказать, что они приходят, уходят, задают вопросы… вопросы, которые явно не имеют никакого отношения к этому делу…
Он замолчал. Я терпеливо ждал. Ведь он хотел поговорить, ну так пусть говорит.
— Ведь вы присутствовали на днях при разговоре, когда старший инспектор высказал совершенно чудовищное предположение? О миссис Леонидис и обо мне… Это было действительно чудовищно! Чувствуешь себя таким беспомощным. Никто не в силах запретить людям выдумывать всякие небылицы! Все это злобная клевета. Только лишь из-за того, что она… так намного моложе своего мужа… покойного мужа. Какие у людей отвратительные мысли… Я чувствую… не могу не чувствовать, что все это — заговор.
— Заговор? Это интересно.
Это действительно было интересно, хотя и не вполне в том смысле, как он это понимал.
— Знаете ли, семья… семья мистера Леонидиса никогда не симпатизировала мне. Они меня сторонились. Я постоянно чувствовал, что они меня презирают. — Руки его начали дрожать. — Только лишь потому, что они всегда были богаты… и могущественны, они смотрели на меня сверху вниз. Кто я для них? Всего лишь учителишка, ничтожный человечишка, который отказался от военной службы лишь потому, что совесть не позволяет ему убивать. У меня действительно были морально-этические соображения для отказа. Уверяю вас!
Я молчал.
— Не верите? Ну ладно. А что если я просто боялся? Боялся, что у меня ничего не выйдет. Боялся, что, когда мне надо будет нажать на спусковой крючок, не смогу заставить себя сделать это. Разве можно с уверенностью сказать, что человек, которого ты собираешься убить, нацист? А вдруг он вполне порядочный парень… какой-нибудь деревенский работяга… и нет у него никаких политических взглядов, а просто его призвали служить в армии во славу отечества? Я убежден в том, что война — зло, это вам понятно? Считаю войну злом.
Я по-прежнему молчал. Мне казалось, что своим молчанием смогу достичь большего, чем если бы стал возражать ему или соглашаться. Лоренс Браун спорил сам с собой и в ходе этого спора во многом раскрывал свою сущность.
— Надо мною всегда смеялись, — голос его задрожал, — у меня по-видимому, есть особый дар выставлять себя в смешном свете. Не сказал бы, что у меня нет мужества… но я, кажется, всегда и все делаю неправильно. Однажды я вошел в горящий дом, чтобы спасти женщину, которая там осталась. Но сразу же сбился с дороги и потерял сознание от дыма, и пожарным пришлось помучиться, прежде чем они меня отыскали. Я слышал, как они говорили: «Зачем этому ослу пришло в голову хвататься не за свое дело?» Что бы ни пытался сделать, все получается из рук вон плохо, все оборачивается против меня. Кто бы там ни убил мистера Леонидиса, но он сумел сделать это так, что подозрение падает на меня. Можно подумать, что кто-то его убил только лишь затем, чтобы уничтожить меня.
— А как насчет миссис Леонидис?
Он покраснел и как будто стал больше похож на мужчину.
— Миссис Леонидис — ангел, — сказал он, — настоящий ангел. С какой изумительной нежностью и добротой она относилась к своему престарелому супругу! Мысль о том, что она может иметь какое-то отношение к отравлению, смехотворна! Неужели это не понятно олуху-инспектору?