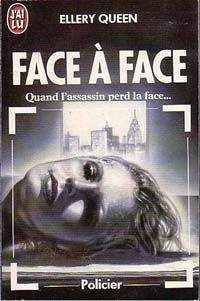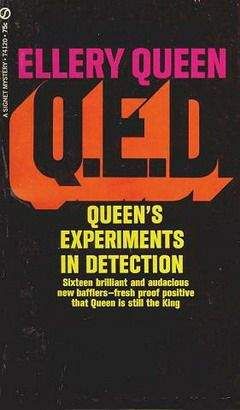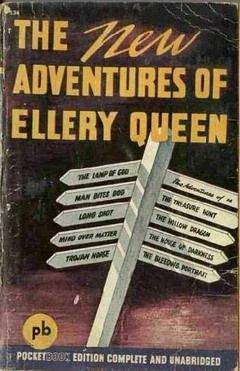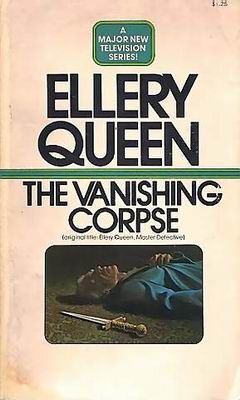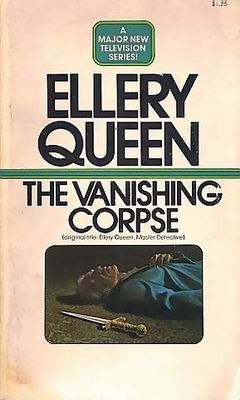— Роберта. Берт. Берти. Я больше не могу этого выносить. Можешь говорить что угодно о полицейских ищейках, но они ведут чертовски скучную жизнь. Я просто схожу с ума. Я имею в виду…
— Ты имеешь в виду, что хочешь вернуться домой, — закончила Роберта.
— Вот именно! Ты меня понимаешь, верно?
— О да, — отозвалась Роберта с тончайшим слоем льда в голосе, который она всегда жаждала использовать в роли шекспировской леди Макбет. — Конечно, понимаю.
Берк просиял.
— Тогда все решено. Не так ли? — с беспокойством добавил он.
— Что именно?
— Я думал…
К его ужасу, Роберта заплакала.
— О, я не виню тебя, Гарри…
— В чем дело, Берти?
— Н-ни в чем.
— Тогда почему ты плачешь?
— Я не плачу. Чего ради мне плакать? Конечно, ты хочешь вернуться домой — ведь ты на чужой земле. Ни игры в дартс в пабах, ни рокеров и модов,[52] ни смены гвардейского караула… У меня болит голова, Гарри. Доброй ночи.
— Но… — Глаза Гарри выражали полное недоумение. — Но я думал… — Он не договорил.
— Да. Ты всегда думаешь. Ты такой рассудочный, Гарри. — Роберта внезапно оторвалась от подушки, на которую проливала слезы. — О чем ты думал?
— Я думал, ты понимаешь, что я не имел в виду…
— Иногда, Гарри, ты способен довести до белого каления. Неужели ты не можешь просто и внятно говорить по-английски?
— Я шотландец, — чопорно произнес Берк. — Возможно, мы говорим на разных языках, но то, что у меня в голове, должно быть понятно всем. Я не имел… то есть имел в виду…
— Да, Гарри?
— Черт побери! — Борцовская шея Берка побагровела от напряжения. — Я хочу, чтобы ты поехала со мной!
Роберта выпрямилась и стала приводить в порядок волосы.
— Это было бы очень приятно, Гарри, при других обстоятельствах. Конечно, ты не умеешь делать девушкам недостойные предложения — у тебя нет savoir-faire[53] таких людей, как Карлос или даже Эллери Квин, но полагаю, учитывая источник, я должна воспринять это как комплимент. По-своему ты очень мил. Ты действительно предлагаешь финансировать мою поездку в Англию в обмен на мои не освященные браком объятия? Я бы очень хотела повидать Англию — Стратфорд-на-Эйвоне[54] и все прочее, хотя, конечно, не могла себе этого позволить. Но боюсь, дорогой, я не могу согласиться. Очевидно, у тебя сложилось неверное впечатление обо мне. То, что обстоятельства вынудили меня признаться в былой связи с этим чудовищем Карло-сом, не дает тебе права думать, что я… девушка подобного сорта. По крайней мере, спасибо за то, что тебе захотелось провести со мной хотя бы несколько ночей любви. Но сейчас я устала и хотела бы лечь спать — одна. Спокойной ночи, Гарри.
— Заткнешься ты или нет? — рявкнул шотландец. — Ни черта ты не поняла! Я хочу жениться на тебе!
— О, Гарри! — воскликнула Роберта. — Если бы я только знала…
Больше ей ничего не удалось произнести. Все остальное утонуло в объятиях и поцелуях.
— Ну, старина, — радостно сообщил Берк Эллери на следующий день, — я наконец сделал предложение.
Эллери усмехнулся:
— И как же Роберте удалось вытянуть его из вас?
— Прошу прощения?
— Бедная девушка неделями ожидала услышать это от вас. Может, даже месяцами. Это заметил бы всякий, кроме одуревшего от любви шотландца. Поздравляю. — Эллери пожал Берку руку.
Они решили пожениться, как только авангардистская дребедень, которую репетировала Роберта, сойдет со сцены, что, как предсказывала мисс Уэст, наверняка произойдет очень скоро.
— Мы подставим наши шеи под брачное ярмо в доброй старой Англии, — сказал Берк. — Мне не терпится оказаться в самолете, дружище. По правде говоря, я сыт по горло вашей прекрасной страной.
— Иногда, — с тоской отозвался Эллери, — мне хочется, чтобы вы победили нас в Йорктауне.[55]
Прокляв графа Армандо и его цыганских предков, он вернулся к своему роману.
Рецензии на ревю Оррина Стайна читались так, словно они были нацарапаны впопыхах в момент оргазма, а не спокойно сочинены во время последующего расслабления. Театральный сезон протекал вяло, и время требовало выброса страстных эмоций критиков.
Или, возможно, причина была в легендарной удачливости Оррина Стайна. Он никогда не терпел фиаско, а в недобром мирке, где жили и работали театральные режиссеры, успех злорадно оценивали в терминах азартных игр, но не в контексте таланта к игре.
Но с Лоретт Спанье все было очевидно. Исполнитель по определению должен исполнять, и единственный вопрос — насколько хорошо он это делает. Ответ, о котором оповестили кричащие заголовки газет, был недвусмысленным. Критики называли Лоретт последней любовью Бродвея. «Стайн нашел звезду!» — оповещал «Вэрайети», сам Уолтер Керр[56] провозгласил ее логической преемницей Глори Гилд, «Лайф» поместил ее краткий биографический очерк, очереди выстраивались у касс и осаждали служебный вход в театр, рассчитывая на автограф. Селма Пилтер подписала контракт, став официальным менеджером Лоретт Спанье — до сих пор старуха трудилась на основании устной договоренности — с полного одобрения Армандо: «Лучше иметь дело с Селмой, cara, чем подставляться всем акулам в этом беспощадном бизнесе». Из Западного Берлина пришла поздравительная телеграмма от Марты Беллины с напутствием контролировать подачу звука.
Премьера состоялась в четверг вечером. Во второй половине дня в пятницу Эллери позвонил по не указанному в справочниках номеру Кипа Кипли.
— Можешь достать мне два билета на ревю Оррина Стайна? Я пытался, но безуспешно.
— На какой год они тебе нужны? — осведомился обозреватель.
— На субботу.
— На эту субботу?!
— Вот именно.
— Кто я, по-твоему, — Джеки Кеннеди? Ладно, попробую. — Он позвонил через десять минут. — Не возьму в толк, почему я чешу тебе спину, когда ты должен мне невесть сколько pro quo. Билеты будут в кассе.
— Спасибо, Кип.
— Засунь свою благодарность сам знаешь куда. Дай мне что-нибудь для печати — и мы в расчете.
— Сам бы этого хотел, — искренне отозвался Эллери и со вздохом положил трубку.
Несмотря на приближающийся срок сдачи романа в издательство, дело Гилд продолжало его беспокоить. Он понятия не имел, почему внезапно решил посмотреть ревю. Это не имело никакого отношения к размерам таланта Лоретт — Эллери верил Бродвею на слово и, как правило, избегал посещать мюзиклы. Тем не менее, приписывая это профессиональному инстинкту держать палец на пульсе трупа, он в субботу вечером взял за руку сопротивляющегося отца (для инспектора мюзиклы умерли вместе с их постановщиками Флоренцом Зигфелдом и Эрлом Кэрроллом; «Оклахому» он считал скучной, а «Мою прекрасную леди» — фантастической чепухой) и отправился вместе с ним в Римский театр.
Их такси пришлось выдержать обычное сражение с транспортом (ни один житель Нью-Йорка в здравом уме не поехал бы на своей машине в театральный район субботним вечером). Обменявшись окрашенными ностальгией замечаниями по поводу вульгарной атмосферы современной Таймс-сквер и растолкав не желающую пропускать их очередь в кассу старого Римского театра — этой Валгаллы,[57] о которой мечтал каждый фанат хит-шоу, — они наконец заняли места в середине шестого ряда партера, перед проходом.
— Неплохие места, — промолвил частично умиротворенный инспектор. — Как тебе это удалось? — Он не знал о просьбе, с которой Эллери обратился к Кипли. — Должно быть, они обошлись тебе в половину недельного жалованья. Моего жалованья, если на то пошло.
— Деньги еще не все, — нравоучительно отозвался Эллери и углубился в чтение программки. О некоторых вещах не стоило рассказывать даже отцу.
Ревю плавно подкатывалось к концу первого акта, где анонсировались песни в исполнении Лоретт Спанье. Казалось, все в зале держали программки открытыми на этой странице — Эллери косился по сторонам, чтобы убедиться в этом. В атмосфере старого театра словно вспыхнуло нечто, оставившее запах серы. Такое случалось примерно каждые десять лет при рождении новой звезды. Можно было почти что слышать треск искр.
Но даже он замер, когда зал погрузился в темноту, предшествующую появлению Лоретт. Тишина была настолько тяжелой, что, казалось, вот-вот лопнет под собственным весом, а темнота — такой же ощутимой, как и безмолвие. Эллери напрягся на самом краю сиденья, чувствуя, что его отец — наименее впечатлительный из всех известных ему людей — сделал то же самое.
Никто не шаркал ногами и не кашлял.
Внезапно ослепительно-белый конус устремился в середину сцены. Лоретт сидела, купаясь в его свете, за широким розовым роялем, сложив руки на коленях. Фоном ей служил черный бархатный задник с вышитой на нем гигантской розой «американская красавица». Она была одета в украшенное блестками вечернее платье того же цвета, что и роза, с высоким воротником и голой спиной. Драгоценности отсутствовали, а белая кожа и золотистые волосы выглядели вытисненными на бархате. Лоретт смотрела не на публику, а на свои руки. Казалось, она пребывает в полном одиночестве, слушая нечто недоступное обычным людям.