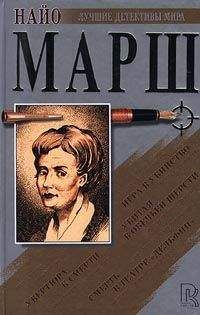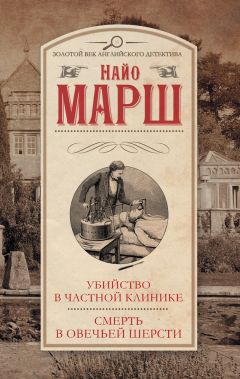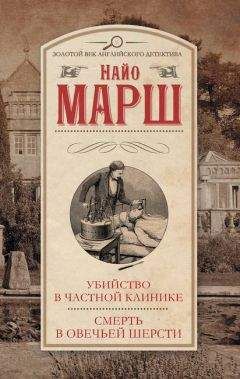— Почему?
— Я воспринимал ее всерьез. Нес всякую чепуху. Рассказывал ей, какие переживания у меня вызывает Чайковский, и выдавливал третью симфонию на пианино с чувством и фальшью. Внушал себе, а также и ей, что мне не по вкусу «Серенада на осле».
— В десять лет? — изумился Аллейн.
— Годам к тринадцати. Я также писал тогда стихи, все больше о природе и высоких идеалах. «Мы должны быть сильны. Только горные пики над нами. Дети нашей страны, никогда мы не станем рабами!» Я переложил это на музыку и преподнес ей на Рождество с красивой акварельной картинкой. Нет, правда, я был ужасен.
— Так, — мирно заметил Аллейн, — но к тринадцати, если не ошибаюсь, вы были в интернате.
— Да. За ее счет. Меня уговорили.
— Пребывание в интернате вы назвали бы успешным? — поинтересовался Аллейн.
К его удивлению, Клифф сказал:
— Да, как ни странно. Я, конечно, не одобряю систему. Образование должно быть уделом государства, а не бескровных неудачников, истинная цель которых — воспитывать классовое сознание. Преподавание в целом было просто на комичном уровне, но имело два-три исключения. — Он заметил, что Аллейн поднял бровь, и покраснел. — Вы думаете, что я неблагодарный щенок?
— Я просто очень надеюсь, что вы, вероятно, откровенны и что вам еще нет и восемнадцати. Но, пожалуйста, продолжайте. Значит, там были свои плюсы?
— Есть вещи, которые трудно испортить. Сначала, конечно, все меня задирали, и я был несчастен. Вплоть до того, что помышлял о самоубийстве. Но у меня оказался крепкий котелок, и это меня спасло. Я получил немало лавров на школьных концертах и научился сочинять слегка непристойные лимерики. Это помогло, и я попал к хорошему преподавателю музыки. И еще я нашел настоящих друзей. Людей, с которыми можно разговаривать.
Эта фраза перенесла Аллейна на много лет назад, к темному кабинету и звону колоколов. «А ведь, — подумал он, — мы были такой же кучкой эгоистичных щенков».
— Когда вы все еще были в интернате, миссис Рубрик поехала в Англию, не так ли?
— Да, тогда это и случилось.
— Тогда случилось что?
Перед отъездом Флоренс навестила молодого Клиффа в интернате, стараясь завоевать его, как несколькими годами раньше Урсулу Харм. Однако с меньшим успехом. На взгляд критически настроенного школьника, она допустила всевозможные просчеты. Она говорила в присутствии одноклассников Клиффа о нем с директором пансиона. Что еще хуже, она настаивала на беседе с его учителем музыки, человеком утонченным и строгим, и внушала ему, что играть надо с душой, и говорила о произведениях Мендельсона. Клиффу стало в тягость ее покровительство, ему казалось, что мальчишки смеются над ним за спиной. Он беседовал с глазу на глаз с Флосси, которая смутила его, говоря о его конфирмации и даже, выражаясь биологическими терминами, о его созревании. В ходе этой беседы она сказала, что ее очень печалит то, что ей не дано иметь сына, причем почти высказала предположение, что по вине Артура Рубрика. Она взяла его лицо в свои сильные ладони и всматривалась в него, пока мальчик не покраснел. Затем она напомнила обо всем, что сделала для него, мягко, но достаточно ясно, и добавила, что совершенно уверена в его истинно сыновней благодарности. «Мы ведь близкие люди», — сказала она. У него похолодела кровь.
Она писала ему длинные письма из Англии и привезла ему великолепный граммофон и множество пластинок. Ему было теперь почти пятнадцать лет. Неприятное впечатление об их последней встрече постепенно померкло. Он вполне освоился в интернате и усердно занимался музыкой. Сначала его отношения с покровительницей, вернувшейся из Англии, складывались достаточно счастливо.
Однако в последней четверти 1940 года Клифф подружился с мальчиком, по всей видимости, из семьи прокоммунистически настроенных интеллектуалов. Их сын, чуткий, озлобленный, сардоничный, казался юному Клиффу зрелым не по годам, мужчиной среди мальчишек. Он жадно впитывал все, что говорил его друг, стал сторонником левых взглядов, спорил с учителями и, как понял Аллейн, мыслил значительно более оригинально, чем они. Он и его друг собрали вокруг себя некую группу «иконоборцев», которые решили бороться с фашизмом, оставив за собой право революционного выступления после окончания войны. Его друг, по-видимому, был так ориентирован с самого начала, но, добавил Клифф, все безусловно изменилось, когда Россия вступила в войну.
— Я думаю, — предположил он, — вы в ужасе.
— Вы так считаете? — спросил Аллейн. — Тогда не буду вас разочаровывать. Хотелось бы услышать, была ли в ужасе миссис Рубрик.
— Я бы сказал, что да. Именно тогда и разразился скандал. Все началось с нашей попытки попасть на фронт. Мы почувствовали, что просто не можем оставаться в школе, и попытались. Конечно, нам отказали. Этот эпизод все восприняли очень кисло. Это был конец 1941 года. Я приехал домой на рождественские каникулы. К этому времени я понял, как глупо было с моей стороны разыгрывать этакого маленького джентльмена за ее счет. Я понял, что если то, что она мне давала, не принадлежало мне по праву, как другим ученикам, не следовало этого принимать. По всей стране не хватало рабочих рук, и я чувствовал, что если не могу попасть в армию, то должен работать здесь.
Он помедлил, затем пробормотал:
— Я не хочу казаться лучше, чем есть. Я не слишком был настроен на армейскую жизнь. Более того, идея служить в армии казалась мне ненавистной. Муштра, тоска, идиотская рутина и, наконец, резня. Но, короче, я чувствовал, что должен.
— Правильно, — сказал Аллейн, — само собой.
— Она не поняла. Ей не терпелось, чтобы я вышел на финишную прямую. Я должен был поехать в Англию, в Королевский музыкальный колледж. За ее счет. Она была в восторге, что я не годен в армию. Когда я пытался объясниться с нею, она обращалась со мной, как с несмышленышем. Когда же я стал упорствовать, она обвинила меня в неблагодарности. Она не имела права! Нет такого права учить десятилетнего мальчишку всему, что он может воспринять, но пока не в состоянии осмыслить, а потом использовать собственное благородство как оружие против него. Она всегда говорила о праве артиста на свободу. Хороша свобода! Пробудила во мне интересы и старалась их использовать. Это ужасно!
— Чем завершился ваш спор?
Клифф повернулся на стуле. Его лицо было в тени, но по его позе и повороту головы Аллейн понял, что он смотрит на портрет Флоренс Рубрик.
— Она сидела точно так же, — сказал он. — Руки были так же сложены, и рот полуоткрыт. У нее всегда было не очень выразительное лицо, и, глядя на нее, вы бы не подумали, что она способна говорить такие вещи. Что сколько стоит, и что, по ее мнению, я люблю ее… Я этого не вынес. Я ушел.
— Когда это было?
— В тот вечер, когда я приехал домой на летние каникулы. Потом я не видел ее до…
— Мы опять вернулись к истории в погребе.
Клифф молчал.
— Ну же, — сказал Аллейн, — до сих пор вы были откровенны. Почему вы упорствуете именно здесь?
Клифф забормотал:
— Все очень хорошо, но откуда я знаю… Это не свободная беседа… гестаповские методы… запишут и используют против тебя…
— Вздор, — сказал Аллейн. — Я ничего не записал, и у меня нет свидетелей. Давайте не будем начинать все сначала. Если вы не хотите рассказывать, не надо, но тогда трудно винить младшего инспектора Джексона за его мрачное отношение к вашей скрытности. Давайте вернемся к голым фактам. Вы были в погребе с бутылкой в руках. Маркинс заглянул в окно, вы уронили бутылку, он привел вас на кухню. Миссис Дак пошла за миссис Рубрик. Произошла сцена, и миссис Дак и Маркинс были удалены с кухни. Мы уже имеем несколько отчетов об этой сцене. Я бы хотел послушать вашу версию.
Клифф смотрел на портрет. Аллейн увидел, как он облизнул губы и коротко зевнул от нервного напряжения. Аллейну была знакома такая гримаса. Он видел ее у заключенных, ожидающих приговора, и у подозреваемых, когда офицер на допросе приближался к опасной точке.
— Возможно, — промолвил Аллейн, — вам поможет следующее. Все, что впрямую не относится к моему исследованию, в отчете просто не появится. Я могу дать вам слово, а вы — положиться на него. — Он подождал. — Итак, перейдем к сцене в кухне. Неужели она настолько ужасна?
— Вам известно то, что рассказали другие. Да, эта сцена была ужасна. Для меня она настолько реальна, точно это было вчера. Просто кошмар какой-то.
— Вы кому-нибудь рассказывали об этом?
— Никогда.
— Тогда выведите чудовище на свет, и мы посмотрим на него.
Он видел, что Клифф отчасти одобрял, отчасти сопротивлялся его упорству.
— В конце концов, — спросил Аллейн, — неужели это так ужасно?
— Даже не ужасно, — отозвался Клифф, — отвратительно.
— Итак…
— У меня было некое чувство уважения к ней. Может быть, формальное. Может быть, феодальное. Но отчасти искреннее. Основанное на благодарности к ней, которая была бы сильнее, если бы она не требовала благодарности. Мне было больно смотреть, как у нее тряслись губы и слышать, как дрожал ее голос. У нас был учитель, который вел себя точно так же, а потом порол нас. Его уволили. К тому же казалось, будто она играет. Играет хозяйку дома, которая должна владеть собой перед слугами. Было бы лучше, если бы она кричала на меня. Когда они ушли, она закричала — один раз. Когда я сказал, что не крал. Потом она вроде бы овладела собой и перешла на шепот. И все равно я знал, что она отчасти играет. И даже отчасти получает удовольствие от своей игры. Это было чудовищно.