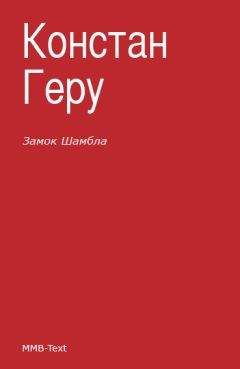– Говорят, что эти адвокаты много себе позволяют. Вдруг он ополчится и на нас?
– Не посмеет! — вскрикнула графиня. — В этих слушаниях речь идет только об Арзаке и Жаке Бессоне, и этот адвокат, как бы дерзок он ни был, не посмеет намекнуть на нас.
– Я думаю, что вы правы, матушка, но мне бы очень хотелось узнать, что он там говорит.
– Стенограмма будет у нас через час после заседания, — сказала Мари Будон.
– Когда же они наконец закончат? — вскрикнула графиня, взглянув на решетчатые окна, выходившие на здание суда.
Госпожа Марселанж и Мари Будон тоже подошли к окну, с таким же нетерпением ожидая конца заседания, где речь шла не только о чести благородных дам, но и об их жизни.
Через час публика начала выходить из зала суда. Все наперебой обсуждали происшедшее, и в обрывках фраз женщины уловили два имени: Андре Арзак и Бак. Когда двое мужчин проходили у них под окнами, дамы услышали следующий диалог.
– Десять лет! — воскликнул один. — Это жестоко.
– Никоим образом, — возразил другой. — Он их заслужил.
– А ты видел, как этот юрист говорил с судьями?
– Да, у адвоката язык хорошо подвешен.
– Он не боится говорить что думает.
– Его зовут Бак?
– Да, Теодор Бак.
– Он говорил такие вещи, что у меня аж челюсть отвисла.
– Еще бы! Даже судьи дрожали, а когда он заговорил о…
Конец фразы затерялся в шуме.
– Что мог сказать этот человек? — встревоженно прошептала графиня.
– Скоро узнаете, — заявила Мари Будон. — Я ухожу и вернусь через час со всеми подробностями.
Настала ночь, графиня и ее дочь с нетерпением ждали возвращения служанки. Наконец послышался шум, громко хлопнула дверь, потом на лестнице послышались быстрые шаги.
– Это она! — вскрикнула графиня, бросаясь к двери.
Мари Будон вошла, держа в руке несколько листов бумаги. Она раскраснелась, по ее лбу струился пот.
– Вот, — сказала она, отдавая бумаги графине, — здесь все.
Графиня взяла их дрожащей рукою и отдала дочери.
– Теодора, — сказала она взволнованным и дрожащим голосом, — у тебя зрение лучше моего, возьми и читай, читай скорее!
Все трое сели поближе к лампе. Госпожа Марселанж начала просматривать листки, быстро пробегая вопросы, которые служанка пересказала графине и ей, и остановилась только на своих собственных показаниях.
«Вдова Марселанж удалилась, и прокурор прочел ее письменные показания.
С.: Знаете вы что-нибудь о преступлении, приписываемом Арзаку?
М.: Я не знаю Арзака.
С.: Согласно показаниям свидетелей, когда Жака Бессона арестовали, вы посылали ему в камеру передачи. Подобные поступки столь высокопоставленных особ, как вы, оскорбляют приличия и общественную нравственность.
М.: Это правда. Когда Жака Бессона посадили в тюрьму, я послала ему кровать, поскольку он еще не оправился после болезни. Правда и то, что я постоянно посылала ему еду.
С.: Я должен заявить вам, что с вашей стороны подобные поступки оскорбляют все правила общественной нравственности, поскольку речь идет о подозрениях. Жак Бессон обвиняется в убийстве вашего мужа, а когда суд кого-то обвиняет, на это есть веские основания. Жена должна прислушиваться к ним, когда речь идет об убийстве ее мужа.
М.: Я всегда думала, что Жак Бессон не виновен в преступлении, приписываемом ему, и хотела, как и суд, найти виновного. Я даже предлагала судебному следователю помощь деньгами в раскрытии этого преступления.
С.: Точно ли известно вам, что Жак Бессон был в Пюи вечером первого сентября 1840 года, в день преступления?
М.: Жак Бессон был в Пюи вечером первого сентября 1840 года. Он начал вставать с постели за три или четыре дня до этого.
После чтения этих показаний слово взял прокурор. Он перечислил факты, касающиеся обвинения, предъявляемого Жаку Бессону, многочисленные улики, доказывающие сообщничество Арзака и лживость его показаний. Он также коснулся пренебрежения к присяге, столь распространенного в деревнях. При каждом обвинении пастух грозно возмущался, отпирался, сжимал кулаки; его с трудом удерживали.
Защищал подсудимого Гильо. По его мнению, показания Арзака не могут сами по себе считаться ложными, поскольку проблема состоит в том, чтобы узнать правду. Противное его показаниями не доказано. Пастух не может ничего сказать, потому что ничего не знает. Какие имеются доказательства того, что Арзак действительно говорил то, что утверждают другие? Какое доверие может быть к свидетелям, которые, весьма возможно, подкуплены родными Марселанжа?»
– Теодора, — сказала графиня с торжествующим видом, — заметила ли ты, что прокурор в своей обвинительной речи постоянно доказывал виновность одного Арзака и что в его речи нет ни малейшего намека на нас?
– Действительно, матушка.
– Я была уверена, — гордо вскрикнула графиня, — что никто не осмелится высказаться против урожденных ла Рош-Негли! — и после недолгого молчания добавила: — Продолжай, Теодора.
– Это возражения Теодора Бака, адвоката Марселанжей.
– Ага! — произнесла графиня.
– Речь очень длинная, — заметила госпожа Марселанж. — Что он мог сказать?
– Не стоит расстраиваться из-за его слов, — сказала графиня.
Она вдруг замолчала, подперла подбородок рукой, и на ее озабоченном лице отразились одолевавшие ее мрачные мысли. Графиня думала совсем о другом. Дочь заметила это после первых же слов матери.
– Теодора, — произнесла графиня, — кроме показаний Мишеля Сулье и Маргариты Морен меня поразили свидетельство Марианны Тарис и вопросы адвоката Марселанжей, заданные Арзаку. Потрудись прочесть.
Госпожа Марселанж разыскала эти листки и начала читать.
«МАРИАННА ТАРИС, двадцать лет:
– Месяц или полтора после преступления Арзак сказал мне, что Жак давал ему яд. При этом он просил меня никому об этом не говорить, прибавив, что это просто зола, завернутая в бумагу. В тот же вечер и на другой день он снова просил меня никому не говорить о том, что он мне рассказал.
АРЗАК: Это неправда.
МАРИАННА ТАРИС: Это истинная правда: он мне сказал это именно тогда, когда собирают картофель; я пасла скот на лугу.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Почему вы так дрожите? Разве вы говорите неправду?
СВИДЕТЕЛЬНИЦА: Все, что я говорю, истинная правда.
АРЗАК (с торжеством): Мне ясно как день, что она лжет. Очень может быть, что ты говоришь правду, но ты лжешь, когда говоришь, что я был на том лугу, я был совсем в другом месте. Вы сами, господин председатель, сказали ей, что она говорит неправду и дрожит.
Бак задал Арзаку несколько вопросов.
– Арзак, вы приходили к графиням де Шамбла просить прощения, что не послушались их, и не кормили ли вас там?
– Кормили.
– Однако во всех предыдущих показаниях вы настаивали, что никогда не пили и не ели в доме графинь де Шамбла. Почему?
– Я не помнил и потому не мог говорить. Я не мог бы сказать и теперь, если бы не помнил.
– Когда вы просили прощения, говорила ли вам госпожа Марселанж: „Все твои родственники против меня“?
– Говорила.
– Не прибавила ли она: „Если ты не скажешь ничего, что ты знаешь, то, когда я вернусь в Шамбла, ты будешь обеспечен на всю жизнь“?
– Нет, она этого не говорила.
– Однако вы сказали Матье Морену и вашему дяде Сулье, что она это говорила».
После чтения наступило молчание.
– Мое предчувствие не обмануло меня, — прошептала графиня. — Все это очень важно, — и, обращаясь к дочери, прибавила: — Что ты думаешь о поведении Арзака?
– Он ведет себя непонятно.
– И в то же время очень опасно. С какой стати он обвиняет всех свидетелей во лжи? Подобные обвинения могут обернуться против него и против нас.
– Арзак себе на уме, — сказала Мари Будон. — Некоторые будут его порицать, как и вы, в том, что он называет всех свидетелей лжецами, но многие крестьяне, которым уже известны проделки Марселанжей, ему поверят. Он это знает и поэтому все отрицает, будучи уверен, что это пойдет во вред нашим врагам.
– Возможно, — согласилась графиня. — Тебе и ему лучше знать, как воздействовать на крестьян.
Обратившись к дочери, она сказала:
– Теперь посмотрим обвинительную речь наших врагов.
– Читать? — спросила госпожа Марселанж со странным чувством опасения.
– Конечно, — ответила графиня с равнодушным видом. — Ведь она выражает мнение Марселанжей, и все их чувства, ненависть и ложь проявятся в словах их адвоката. Прочти же его речь, прочти до конца, не пропуская ни одной строчки.
Госпожа Марселанж начала читать этот удивительный образчик красноречия, который мы приведем целиком, во-первых, потому, что он имеет самое прямое отношение к нашей драме, во-вторых, потому, что это необходимо для развития нашего рассказа: