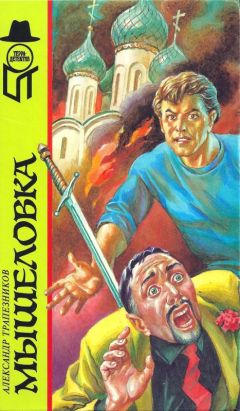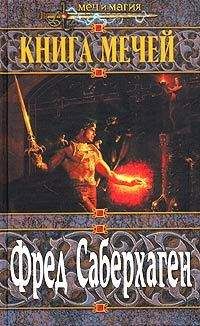— Друзья мои! — сказал он. — Не удивляйтесь, что я собрал вас здесь всех вместе. Вы принадлежите к элите нашего островка, на котором мы оказались волею судьбы. Можно добавить, что все вы — духовная и материальная квинтэссенция Полыньи. Здесь есть и ее уроженцы, и занесенные сюда случайным ветром. Но нам теперь предстоит жить вместе, по новым правилам, поскольку мы отрезаны от всего мира. Следует забыть прошлое… на неопределенное время. Сейчас мы подобны древнегреческим богам, восседающим на вершине Олимпа…
«Эк, как круто берет!» — подумал я и тут только заметил, что все еще стою возле дверей — в полном одиночестве. Марков уже сидел за столиком вместе с Барсуковыми и Раструбовым, а за соседним Милена манила меня пальчиком. И я пошел к ней, усевшись между Ксенией и Комочковым. Намцевич между тем продолжал свою тронную речь.
— Ситуация сейчас такова, что Полынье необходим особый порядок. Вы знаете, какое трагическое событие произошло недавно. Чтобы ничего подобного не повторилось впредь, нужно особое внимание, тщательный контроль и забота обо всех жителях. Меня попросили установить спокойствие в Полынье. И я решил взять на себя эту тяжелую ношу. Так, Илья Ильич? — обратился он к Горемыжному. Тот поспешно закивал головой. — Я надеюсь, что никто из присутствующих меня не разочарует, а, напротив, будет помогать и всячески поддерживать. Ведь мы теперь представляем единый организм, который должен действовать слаженно и четко. А я постараюсь разрешить все возникшие проблемы. Пью за вас, дорогие друзья!
— Что это означает? — тихо спросила Ксения.
— Смена власти, — ответил ей Комочков. — Пей и не рыпайся. Он же ясно дал понять, что больные члены организма будут заменены протезами. Скажи спасибо, что попала в элиту.
— Спасибо! — громко фыркнула Ксения.
А мне тост Намцевича напомнил нашу недавнюю беседу с ним, где он говорил о желании владеть маленьким миром, в котором хочет установить земной рай. Что же, похоже, он добился своего… Тем временем начали раздаваться другие тосты, славившие хозяина особняка, а чуть позже шампанское и крепкие напитки ударили в головы, наполняя их весельем и бестолковым безумием. Возможно, так мне показалось, в напитки было что-то подмешано, какое-то наркотическое снадобье. Но я почти не притрагивался ни к ним, ни к пище и поэтому сохранял спокойствие и трезвый разум. Кроме того, мне не хотелось выглядеть пьяным перед Валерией, которая продолжала бросать на меня острые взгляды.
Скоро все это застолье стало напоминать мне пир во время чумы… Я глядел вокруг себя и видел, как меняются люди, словно чья-то умелая рука срывает с них привычные маски. Вот щебетал о чем-то на своем родном восточном языке проповедник Монк, теребя длинную белую бороду: он походил на заведенную куклу, ожившую в ночном кошмаре… Как оглобля перегнулся через стол Горемыжный, ловя длинными руками воздух… Прильнул к статуе Венеры пекарь Раструбов, лаская ее интимные места, всхлипывая от удовольствия… Неподвижно застыл Дрынов, уставившись немигающими глазами в одну точку… Плакал, рыдал учитель Клемент Морисович, закрыв лицо ладонями… Торопливо пил одну рюмку за другой доктор Мендлев, дико озираясь вокруг, будто ища кого-то невидимого… Танцевала в центре зала рыжая Жанна, постепенно освобождаясь от лишней одежды… Уснул за столиком Сеня Барсуков, опрокинув бутылки, сжимая в ладони руку жены… Маша чему-то беззвучно смеялась… А Комочков заливался хохотом, глядя на мрачного, сцепившего зубы Маркова… Милена пыталась ущипнуть меня как можно больнее и уже исщипала мне весь бок… Другие гости тоже вели себя как сумасшедшие, дико и необузданно. Кроме Валерии, которая осталась одна, после того как куда-то исчез Намцевич. Я встал, оттолкнув руку Милены, и направился к ней. Не говоря ни слова, она показала мне глазами на стул.
— Зачем Александру Генриховичу понадобилось превращать тут всех в безумных уродов? — спросил я.
— Это доставляет ему удовольствие, разве не ясно? — пожала она плечами. — Сейчас он сидит где-нибудь и наблюдает за нами и смеется.
— Он — сумасшедший?
— Возможно. Но дело не в этом.
— А в чем же?
— Позже. Сейчас я не могу с вами разговаривать. — Она легко встала из-за столика и добавила: — Моя комната — в левой угловой башне, а пройти туда можно через первый этаж.
— Когда я смогу увидеть вас?
— Когда вам удастся это сделать, — ответила Валерия, сделав упор на третьем слове, после чего быстро пошла к двери. Я смотрел ей вслед, чувствуя какую-то нереальность всего происходящего. И этот странный разговор с Валерией, и пир вокруг — все казалось мне зыбким полубредовым сном, словно я должен был скоро очнуться, чтобы погрузиться еще глубже в забытье. Я увидел, что Милена целуется с Комочковым, а Ксения держит над ними две тарелки и смеется. Я встал и пошел к их столику.
— Не пора ли нам домой? — спросил я, но они меня не услышали. Зато рядом раздался голос Маркова:
— По-моему, нас тут всех отравили.
Его тошнило, а лицо было зеленое и блестело от пота. Я подхватил его под руку и потащил на балкон, чуть не споткнувшись по дороге о вытянутую ногу Горемыжного. Там в кресле-качалке сидел Намцевич и попыхивал сигарой, глядя на разгоравшееся зарево на берегу озера.
— Капитану плохо? — спросил он. — Пить надо Меньше.
— Слушайте, Намцевич, чем вы тут всех опоили? — грубо спросил я. — Я и не знал, что вы такая… медуза, — подобрал я сравнительно безобидный образ.
— Человек ведь по натуре свинья, — спокойно отозвался он, кивнув в сторону зала. — И в этом вы можете легко убедиться. Жаль, что вы сами ничего не попробовали. Весь в деда. Такой же осторожный.
— Что там полыхает?
— Лодки. Горят лодки. Они теперь никому не нужны.
— Ваша работа? Чтобы никто не уплыл?
— А попробуйте по морю, аки посуху. Вы же верите в Христа.
— А вы — нет? Впрочем, не отвечайте. И так ясно. Слушайте, Александр Генрихович, не пора ли заканчивать эту катавасию? Велите своим нукерам отвезти нас домой.
— Что ж, пожалуй, — согласился он. — Мне и самому надоело. А о чем вы беседовали с Валерией?
— О вас. Я считаю, что вы ненормальный.
— Она тоже так думает?
— Спросите у нее сами.
— Лень. Да и скучно.
Спустя некоторое время он вызвал бритоголового «бельгийца», и я еле усадил всех своих друзей в джип. А потом, когда мы подъехали к дому, с еще большим трудом вывел их из машины. Но самых огромных усилий мне стоило развести их всех по комнатам и уложить спать. Сам же я остался один…
Утром меня постигло одно горькое разочарование, которое, очевидно, рано или поздно приходит почти ко всем мужьям, имеющим жен ветреных и привлекательных. Я стал рогоносцем. Впрочем, вполне возможно, был им уже давно. Но мог ли я судить свою жену, поскольку сам изменил ей в Полынье дважды, да еще и был без ума от Валерии? Но подобные факты всегда больно бьют по мужскому самолюбию, по нашей скотской привычке ставить собственное фирменное клеймо на все вещи, окружающие тебя, включая приписанных тебе судьбой или загсом жен. Так хочется владеть ими вечно, до смертного часа, а порой и после смерти, подобно африканским вождям, уносящим в могилу все свое одушевленное и неодушевленное имущество. В глубине души я всегда надеялся, что Милена сохраняет мне верность, несмотря на ее частое отсутствие или другие вольные шалости. Я не мог поверить, что это может случиться и со мной, словно я не был ни эгоистом, ни московским пустозвоном, а занимал какое-то особенное, привилегированное положение в Храме Мужской Доблести, а хроника нашей семейной жизни не изобиловала и моими «командировками», равнодушием к супруге, самосозерцанием, да и простыми пьянками, несущими и чревоточину, и разлад, и прочую бесовщину. Но мне было горько еще и потому, что она изменила мне с моим лучшим другом. А узнал я об этом так.
Я проснулся в седьмом часу утра, потому что меня мучила сильная жажда. Вышел из своей комнаты номер шесть, прошел через зал на кухню, которую у нас занимал Комочков. Николай лежал на кушетке в какой-то неестественной позе, вывернув набок голову, словно ему сломали шею, а лицо покрывала мертвенная бледность. Я даже испугался, что он умер. Но, наклонившись ко рту, уловил слабое дыхание. Я вспомнил, как он целовался в особняке Намцевича с Миленой, и меня охватила злость. Я не стал его будить, а, напившись из ведра воды, пошел обратно. Но по привычке вошел не в свою комнату, а в соседнюю, куда накануне отнес Милену, уложив ее в постель. Открыв дверь, я увидел на подушке две головы — ее и Маркова. Она спала на его плече, разметав волосы, а он обнимал ее одной рукой. Мне все стало ясно… Как только я вошел, Егор открыл сначала один глаз, затем другой и холодно уставился на меня, не произнося ни слова. Милена же продолжала тихо посапывать. Так мы смотрели друг на друга минуты две. Потом чуть виноватая улыбка тронула его губы.