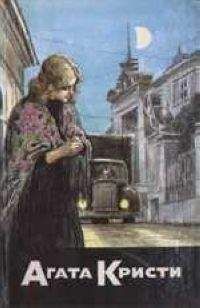Она посмотрела на детектива; их глаза встретились. Ее взгляд обладал неимоверной силой. Дэлглиш чувствовал, что о нем составляют мнение. Тут же было и кое-что еще: мольба о некоем молчаливом подтверждении, что она может говорить свободно и ее поймут. Адам ждал.
— Я любила его, — сказала она просто. — Мы встречались шесть лет. Три месяца назад это прекратилось. Секс прекратился, любовь осталась. Я думаю, что Невил почувствовал облегчение. Его утомляла постоянная необходимость скрываться, осторожничать. И одновременно он не мог поступать по-иному. Когда я вернулась к Сельвину, одной заботой у него стало меньше. Впрочем, я никогда не уходила от мужа по-настоящему. Наверное, одна из причин моего брака с Сельвином в том, что сердцем я понимала: Невил никогда не захочет соединиться со мной навсегда.
— Отношения прекратили вы или он? — мягко спросил Дэлглиш.
— Мы оба, но главным образом я. Мой муж — хороший, приятный человек, и я его люблю. Иначе, наверное, чем Невила, и все же мы были счастливы. Мы и сейчас счастливы. А еще существует мать Сельвина. Вы, наверное, с ней еще повстречаетесь. Она работает у Дюпейнов. Миссис Фарадей — женщина непростая, однако обожает сына, всегда была к нам добра, купила нам и дом, и машину; она живет ради Сельвина. Ко мне пришло осознание того, как я заставляю страдать других. Сельвин из тех людей, кто отдается любви целиком. Он не очень умен, но знает, что такое любовь. У него не возникало никаких подозрений; он даже представить себе не мог, что я ему изменяю. Я почувствовала, что мы с Невилом ведем себя неправильно. Вряд ли он ощущал что-то подобное: жены, чтобы о ней беспокоиться, у него не было, с дочерью он общался мало. Невил не был по-настоящему угнетен, когда наши отношения прекратились. Как видите, всегда больше любила я его, а не он меня. В жизни Невила было столько забот и стрессов, что, возможно, для него оказалось облегчением избавиться хотя бы от одного беспокойства — беспокойства о моем счастье, о том, что все откроется.
— И это случилось? О вас узнали?
— Насколько я знаю, нет. В больнице слухи распространяются быстро, как, наверное, и в любом учреждении, но мы были очень осторожны. Вряд ли кто-нибудь в курсе. А теперь, когда он умер, мне не с кем о Невиле поговорить. Когда я с вами о нем разговариваю, мне становится легче. Странно, правда? Невил был хорошим человеком, коммандер, и хорошим психиатром, хотя сам он так не считал. У него никогда не получалось оставаться достаточно отстраненным — так, чтобы сохранять душевное спокойствие. Он слишком много переживал; его ужасно беспокоило общее состояние психиатрической службы. Вот мы — одна из богатейших стран в мире — не можем обеспечить уход за старыми, душевнобольными, за теми, кто провел жизнь в работе, самоотдаче, борьбе с жестокостью и нищетой. А теперь, когда они постарели, выжили из ума и нуждаются в любви и заботе, мы не можем им предложить ничего, даже эту малость. Он переживал и о больных шизофренией, о тех, кого нам нечем лечить. Невил считал, что должны существовать приюты: места, где они могут находиться до тех пор, пока не минует кризис, куда можно приходить даже по доброй воле. А еще — страдающие болезнью Альцгеймера. Ухаживающие за ними время от времени сталкиваются с неразрешимыми проблемами. Невил не мог отстраниться от их страданий.
— Судя по тому, как много было у него работы, наверное, не стоит удивляться, что он не хотел посвящать музею времени больше, чем посвящал.
— Он вообще не посвящал ему времени. Он ходил на ежеквартальные собрания опекунов: был обязан делать это. В иной ситуации Невил отошел бы в сторону и предоставил бы дела сестре.
— Ему было неинтересно?
— Все куда серьезнее. Он ненавидел это место. Говорил, что уже достаточно им ограблен за свою жизнь.
— Он объяснял, что под этим понимает?
— Невил имел в виду свое детство. Он мало об этом рассказывал, но оно не было счастливым. Ему не хватало любви. Его отец все силы отдавал музею. И деньги. Хотя на их образование он кое-что потратил. Частные школы, государственные школы, университеты. Иногда Невил говорил о своей матери; у меня сложилось впечатление, что она не была сильной женщиной — ни душевно, ни физически. Она слишком боялась его отца, чтобы защищать детей.
«Ему не хватало любви — и была ли она вообще? Защищать от чего? От насилия, совращения, пренебрежения?»
— Невил считал, что мы слишком заняты прошлым: историей, традициями, вещами, которые мы собираем, — продолжала она. — Он говорил, что мы загромождаем свою жизнь мертвыми жизнями, мертвыми идеями, вместо того чтобы решать проблемы настоящего. Однако сам он был погружен в свое прошлое. Вы ведь не можете это стереть, так ведь? Не важно, о стране мы говорим или о человеке. Оно было. Оно сделало нас такими, какие мы есть, и нам придется его понять.
«Невил Дюпейн был психиатром. Он должен был понимать лучше, чем кто-либо другой, как сильные щупальца прошлого могут опутать душу».
Адам видел, что теперь, начав говорить, миссис Фарадей не может остановиться.
— Я не слишком хорошо все это объясняю. Я говорю только о том, что чувствую. Мы не часто разговаривали о его детстве, неудачном браке, музее. Просто времени не было. Если нам удавалось провести вечер вдвоем, все, что он хотел — это поесть, позаниматься любовью и поспать. Невил не хотел вспоминать, он хотел расслабиться. И это я могла ему дать. Иногда, когда все уже было сделано, я думала, что любая другая женщина могла сделать для него то же самое. Лежа там, я чувствовала себя от него дальше, чем в клинике, когда он что-то диктовал или обсуждал со мной расписание на неделю. Когда кого-то любишь, ты стремишься дать любимому все, в чем он нуждается, но ты не можешь, правда? Никто не может. Дать можно только то, что другой готов взять. Извините, я не знаю, зачем все это вам рассказываю.
«Разве не повторяется каждый раз одно и то же? Люди мне что-то рассказывают. Мне не нужно выяснять, спрашивать. Они просто рассказывают». Все началось, когда Дэлглиш был молодым сержантом; тогда его это удивило и заинтриговало. Это дало пищу его поэтическому дару, и с некоторым стыдом он осознал полезность своего дара. Дело было в жалости. Он с детства знал, как жизнь разбивает сердца, и это тоже питало его поэзию. «Я выслушиваю людские исповеди и использую их, чтобы стянуть наручники на их запястьях».
— Не кажется ли вам, что давление на работе, чужие несчастья, которые он разделял, — это отбило у него охоту жить дальше? — спросил Дэлглиш.
— Убить себя? Совершить самоубийство? Никогда! — Ее голос зазвенел. — Никогда, никогда! О самоубийстве мы время от времени разговаривали. Он был против этого. Я не о тех, кто очень стар или безнадежно болен, — мы можем их понять. Я о молодых. Невил говорил, что нередко самоубийство — проявление агрессии, что оно оставляет на семье и друзьях неподъемную вину. Он не оставил бы своей дочери такое наследство.
— Спасибо вам, — сказал Дэлглиш. — Вы очень мне помогли. Осталась одна вещь. Вы знаете, что доктор Дюпейн держал «ягуар» в гараже при музее, уезжал на нем вскоре после шести вечера каждую пятницу и возвращался поздно вечером в воскресенье или рано утром в понедельник. Нам, конечно, необходимо выяснить, куда он уезжал на выходные, был ли кто-то, кого он регулярно навещал.
— Вы о том, была ли у него другая жизнь? Тайная, не имевшая отношения ко мне?
— Не исключено, что эти выходные как-то связаны с его смертью. Его дочь не имеет понятия о том, куда он ездил и, похоже, никогда не пыталась это выяснить.
Миссис Фарадей неожиданно вскочила и начала ходить вдоль окна. Какое-то время стояла тишина, потом она сказала:
— Да, не пыталась. Наверное, никто из семьи не спрашивал и не беспокоился. Они жили изолированно друг от друга, почти как королевская семья. Я часто задумывалась: не в отце ли тут дело? Невил иногда о нем заговаривал. Я не понимаю, зачем Дюпейн-старший завел детей, которые доставляют столько беспокойства. Его страстью был музей, поиск экспонатов, ему нравилось тратить на это деньги. Невил любил дочь и чувствовал себя виноватым перед ней. Видите ли, его пугало, что он ведет себя в точности как отец, отдавая работе внимание и заботу — когда следовало отдавать их Саре. Я думаю, он хотел закрыть музей именно поэтому. И возможно, ему были нужны деньги.
— Для себя?
— Нет, для нее.
Она вернулась к столу.
— А он когда-нибудь рассказывал вам, куда ездит в выходные?
— Нет, не говорил ни куда ездит, ни что делает. Выходные были его освобождением. Он любил эту машину. Невил не был механиком, не умел ее ни ремонтировать, ни обслуживать — он любил ее водить. Каждую пятницу он уезжал за город и гулял. Невил мог гулять субботу и воскресенье. Останавливался в маленьких харчевнях, провинциальных гостиницах, иногда только на ночевку и завтрак. Он любил хорошую еду и уют, поэтому выбирал место ночлега осторожно. При этом Невил не наведывался в одно и то же место регулярно. Он не хотел, чтобы им интересовались и задавали ему вопросы. Невил мог отправиться к Уай-Вэлли, в Дорсет, иногда к морю — в Норфолк или Суффолк. Это были одинокие прогулки. Вдали от людей, вдали от телефона, вдали от города. Они позволяли ему оставаться в своем уме.