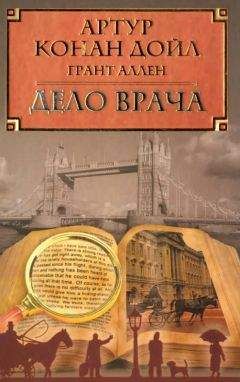— Каков его ответ? — спросил я у повара самым высокомерным голосом. Изображать высокомерие я не привык, но…
Наш переводчик закланялся снова, трясясь всеми поджилками, сколько их у него было.
— Жрец-сахиб говорить, это все лгать. Это все проклятое лгать. Вы есть еулопейски миссионер, очень плохой человек; вы хотеть идти в Лхаса. Но белый сахиб не должен идти в Лхаса. Священный город, Лхаса, только для буддистов. Это не есть дорога на Кулаак. Это не земля махараджи. Это место принадлежать далай-ламе, главе всех лам. Он иметь дом в Лхаса. Но жрец-сахиб знает вы как еулопейски миссионер, хотящий идти в Лхаса, чтобы обратить буддистов, потому как… Рам Дас сказать ему так.
— Рам Дас! — воскликнул я, к этому времени уже сильно обозлившись. — Негодяй! Мерзавец! Он не только бросил нас, но еще и предал. Он солгал, намеренно солгал, чтобы настроить тибетцев против нас. Теперь нам придется туго. Наш единственный шанс — каким-то образом ублаготворить этих людей.
Толстый жрец снова заговорил.
— Что он говорит на этот раз? — спросил я.
— Он говорить, Рам Дас сказать ему все это, потому как Рам Дас хороший человек — очень хороший человек: Рам Дас принял буддизм. Вы платить, Рам Дас проводить вас до Лхаса. Но Рам Дас хороший человек, не хотеть дать еулопейски видеть священный город. И привести вас вместе сюда. И тут он известить жрец-сахиб про это.
Судя по едва скрываемой усмешке, трюк Рам Даса он весьма одобрил.
— Что они с нами сделают? — спросила леди Мидоукрофт. Лицо у нее было совсем белое, хотя держалась она куда мужественнее, чем я мог бы ожидать.
— Не знаю, — ответил я, прикусив губу. — Но мы не должны сдаваться. Мы еще не побеждены. В конечном счете они, быть может, больше бранятся, чем на самом деле сердятся. Еще есть надежда, что нам удастся убедить их, чтобы они нас отпустили.
Люди в желтых одеяниях заставили нас направиться к деревне и монастырю. Мы стали их пленниками, и сопротивляться было бесполезно. Поэтому я приказал носильщикам взять палатки и остальной багаж. Леди Мидоукрофт подчинилась неизбежному. Мы медленно двинулись по тропе длинной вереницей, с ламами в желтых мантиях в качестве бдительной охраны. Я изо всех сил старался сохранять спокойствие и главное — не выглядеть опечаленными.
По мере приближения к деревне, с ее жалкими и вонючими хижинами, мы уловили звук колокольчиков, бесчисленных колокольчиков, бренчащих в определенном ритме. Местные жители высыпали из домов поглазеть на нас. У всех них были плоские лица, раскосые, и все они были упорно, уныло, удручающе инертны. Их, казалось, заинтересовала наша одежда и внешность, но открытой враждебности я не заметил. Не останавливаясь, мы прошли выше, до низкого здания монастыря с его пирамидальной крышей и чудными, кувшиноподобными башенками. Последовал краткий обмен репликами, и монахи ввели нас в храмовый зал, который, видимо, служил также для общих собраний и судебных разбирательств. Входя, мы дрожали — у нас не было уверенности, что когда-нибудь выйдем отсюда живыми.
Храм представлял собою просторное, вытянутое в длину помещение, в дальнем конце которого, в нише, похожей на апсиды[60] итальянских церквей, восседал на престоле огромный Будда со скрещенными ногами. Перед ним располагался алтарь. Будда, безмятежный, непроницаемый, смотрел на нас со своей вечной улыбкой. Самодовольное божество вырезали из белого камня и пестро раскрасили; на плечи его была накинута желтая мантия, как у всех лам. Воздух в зале казался густым из-за аромата ладана, а также недостатка вентиляции. Середину зала занимал огромный деревянный цилиндр, нечто вроде барабана-переростка, раскрашенный в яркие цвета, покрытый орнаментами и тибетскими письменами. Он был намного выше человеческого роста, пожалуй, футов девяти, и держался на железной, вертикально расположенной оси. Присмотревшись, я обнаружил, что к цилиндру прикреплен рычаг, а к нему привязана струна. Одинокий монах, поглощенный служением, дергал за эту струну, отчего цилиндр прокручивался и сверху раздавался звон колокольчика. Казалось, будто это душа монаха была привязана к барабану и ее усилием звонил колокольчик.
Все это сразу бросилось нам в глаза, но поначалу мы не уделили зрелищу внимания — ведь речь шла о нашей жизни, и нам было не до этнографических наблюдений. Но как только Хильда заметила цилиндр, лицо ее просветлело, и я понял, что у нее появилась какая-то идея.
— Это молитвенное колесо! — вскричала она, и в голосе ее звучала неподдельная радость. — Я знаю, где мы находимся… Хьюберт, леди Мидоукрофт, я вижу выход! Точно повторяйте за мной, и все еще может обойтись. Ничему не удивляйтесь. Думаю, мы сумеем сыграть на религиозных чувствах этих людей.
Не колеблясь ни минуты, она трижды простерлась перед статуей Будды, отчетливо коснувшись лбом пыли на полу. Мы немедленно проделали то же самое. Тогда Хильда поднялась и медленно пошла в обход вокруг барабана, повторяя на каждом шагу, монотонно, нараспев, как это делают жрецы, четыре магических слова: «Ом, мани, падме, хум», и снова «Ом, мани, падме, хум», много раз подряд. Мы вторили ей, твердя священную формулу так, будто знали ее с детства. Я заметил, что Хильда движется посолонь. Этот момент весьма важен для всех таинственных, наполовину магических церемоний.
Наконец, после десяти или двенадцати кругов, она остановилась, с отрешенным видом вернулась к статуе вечно смеющегося Будды и еще трижды коснулась лбом земли, совершая поклонение.
Тут затверженные некогда уроки пастора при церкви Св. Алфегия вдруг всплыли в памяти леди Мидоукрофт.
— О, мисс Уайд, — пробормотала она испуганно, — хорошо ли так делать? Разве это не явное идолопоклонство?
Здравый смысл Хильды помог ей найти верный ответ.
— Идолопоклонство или нет, у нас нет другого способа спастись, — твердым голосом произнесла она.
— Но… Следует ли нам спасаться? Не правильнее ли будет… ну… стать мучениками?
Хильда была само терпение.
— Думаю, что нет, дорогая, — заявила она мягко, но решительно. — Мученичество — это не ваше призвание. В наше время опасность впадения в идолопоклонство среди европейцев не столь велика, чтобы мы ради предупреждения ее заплатили своими жизнями. Я знаю лучшие способы употребления собственной жизни. Я не откажусь стать мученицей там, где выбор будет достаточно серьезным. Но не думаю, чтобы такая жертва требовалась сейчас от нас здесь, в тибетском монастыре.
Жизнь была дана нам не для того, чтобы мы растрачивали ее понапрасну!
— Но… все же… Я боюсь…
— Не бойтесь ничего, дорогая, иначе потеряете все! Следуйте за мной. Ваше поведение на моей ответственности. Если уж Нааману, окруженному идолопоклонниками, дозволено было поклониться в доме Риммона[61], всего лишь чтобы сохранить за собой место при дворе, то вы, несомненно, можете поклониться ради спасения своей жизни в буддистском храме. Ну же, довольно казуистики! Делайте, как я вам говорю! «Ом, мани, падме, хум», еще раз! И еще один обход вокруг барабана!
Мы снова послушались, леди Мидоукрофт сдалась, лишь слабо попротестовав. Жрецы в желтом не сводили с нас взглядов, пораженные нашими эволюциями. Было ясно, что их мнение о наших кощунственных замыслах относительно священного города начало меняться.
После того как завершили второй круг, с величайшей торжественностью, один из монахов подошел к Хильде, видимо, приняв ее за нашу духовную руководительницу. Он сказал ей что-то по-тибетски, чего мы, конечно, не поняли; но, поскольку при этом монах указал на собрата, который крутил колесо, Хильда утвердительно кивнула.
— Если вы этого хотите, — сказала она по-английски, и он, по-видимому, понял. — Он спрашивал, хочу ли я покрутить цилиндр, — пояснила она для нас.
Монах поднялся со скамеечки, на которой преклонял колени, и уступил Хильде место. Она тоже опустилась на колени и взяла в руки струну, как будто для нее это было дело привычное. Я заметил, прежде чем она приступила к процедуре, что настоятель, очевидно намереваясь испытать ее, незаметно подтолкнул цилиндр левой рукой, — теперь он вращался не в ту сторону, в которую направлял его монах. Но Хильда отпустила струну, негромко вскрикнув от ужаса. Это было неверное направление — несчастливое, запрещенное каноном, путь зла, противосолонь. С выражением благоговейного страха Хильда замерла, повторила еще раз мантру из четырех таинственных слов и трижды, с хорошо разыгранным почтением, поклонилась Будде. Затем она раскрутила цилиндр, как полагается, правой рукой, в благопожелательном направлении и сделала семь оборотов с крайней серьезностью.
В этот момент, приободренный примером Хильды, я тоже ощутил вдохновение. Открыв свой кошелек, я вынул четыре новеньких серебряных рупии индийской чеканки. Они были очень красивые, блестящие, с изображением нашей королевы как императрицы Индии. Держа их на раскрытой ладони, я приблизился к статуе Будды и выложил свое подношение рядком у его ног, сопроводив действие приличествующей формулой. Но поскольку я не знал, какую именно мантру полагалось произносить по такому случаю, я проговорил вполголоса первое, что вспомнилось — детскую считалку: «Хоки-поки-винки-вум». Статуя по-прежнему благожелательно улыбалась. Судя по лицам жрецов, они решили, что я произнес весьма действенную молитву на своем языке.