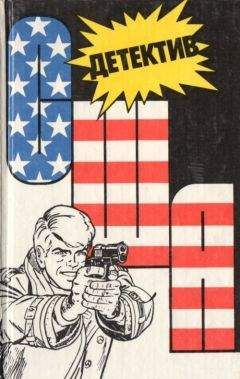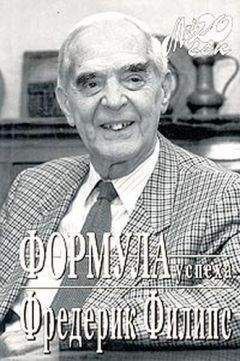— Иди к Джорджи, — приказал Дьюк Лонг Труди.
— Послушай, Дьюк, не хочу я сидеть целый день с покойником.
— Делай, что велел К.К., - отрезал Лонг.
— Я хочу кофе, — Питер поймал ее умоляющий взгляд. Труди как бы говорила, что не сможет узнать, где хранятся ружья, если будет привязана к Джорджу. Но он ничем не мог ей помочь.
— Налей себе кофе и вали к Джорджи, — решил Дьюк.
Труди подошла к плите.
— Рукоятка горячая, — предупредила ее Эмили.
Девушка нашла державку, налила себе кофе.
— Не пойму, почему именно я должна сидеть с этим недоумком, проворчала она.
— Не тяни резину, — прикрикнул на нее Дьюк.
Труди прошествовала через кухню и исчезла за дверью. Дьюк повернулся к Питеру и двум женщинам. Его глазки-пуговки впились в Линду.
— Сидите тихо, и вам ничего не будет, — изрек он.
— Не забывай, одноногий — мой, — Телицки поднялся, чтобы налить себе кофе. Затем он и Лонг пересели на дальний конец стола, выложив перед собой ружья. Потекли первые минуты трехчасового ожидания.
— Хотите еще что-нибудь съесть? — спросила Эмили Питера.
— Нет, благодарю.
Линда чуть повернулась. Дьюк не отрывал от нее глаз. Должно быть, она знала, что ждало ее, во всяком случае, в воображении Дьюка. Все более отчетливо ощущал Питер близость с обеими женщинами и стариком. Опасность рождала единение, привязанность, сплачивала людей, не имевших ранее ничего общего. То же самое испытывал он и на войне.
Питер взглянул на Линду. Внешнее спокойствие давалось ей нелегко. Мечта фотографа: высокие скулы, гладкая кожа, выразительные, все понимающие серые глаза. И он, беспомощный, одноногий калека.
— Бедный Тьюзди, — внезапно прервала молчание Эмили. — Прожить всю жизнь, следуя определенным принципам, и в самом конце предать все, во что верил, обмануть друзей, склониться перед ненавистной силой. Интересно, как бы он поступил, если б не было меня.
— И что бы он сделал? — откликнулась Линда.
Они разговаривали, словно не замечая присутствия Телицки и Лонга.
— У него был бы выбор. Я отняла у него эту возможность.
— Я наблюдала за вами и завидовала.
Темные брови Эмили поползли вверх.
— Завидовали?
— Как бы все это не закончилось, вы столько лет любили друг друга. Такое достается немногим.
— У вас есть в городе кавалер?
Линда покачала головой.
— Тот, кого я любила, погиб во Вьетнаме.
— Вам повезло. Разумеется, не в том, что его убили, а потому, что он не ждет вас в Барчестере, не находя себе места, думая о том, что с вами случилось или случится. На себя Тьюзди наплевать. Но он боится за меня, и это убивает его.
Рука Линды с такой силой впилась в край стола, что покраснела кожа под ногтями.
— Я стараюсь оставаться такой же невозмутимой, как и вы, Эмили.
Взгляд Эмили скользнул по бандитам.
— И правильно. Наш страх только порадует этих дьяволов.
Телицки ухмыльнулся.
— Ты еще помолишь о пощаде, когда придет срок, мамаша.
— Они ждут нашей смерти, как нормальные дети — прихода гостей на день рожденья. Что произошло с ними, Стайлз? Что случилось с нынешней молодежью? Я допускаю, что наша ситуация — это крайность, но юность что-то утеряла. Никаких традиций, никаких грез, ничего из того, что было в наше время.
— Возможно, то же самое говорили и о вас, Эмили, когда вы были натурщицей в Париже, — ответил Питер. — Позировали художникам без одежды, жили в грехе с Тьюзди. В те дни тоже спрашивали, что случилось с молодежью.
— Вы говорите о социальных нормах, — возразила Эмили. — Тьюзди и я их нарушали, но Тьюзди — самый нежный, самый добрый мужчина из встреченных мной. Он всегда ненавидел насилие. Он никому не причинял зла. А сегодняшние подростки наслаждаются насилием. Они сбиваются в толпы вместо того, чтобы становиться личностями. Перед ними открыты все пути: образование, работа, творчество. Но это не для них. Знаете, как они развлекаются? Поджигают людей и смотрят, как те горят. Но даже эту забаву они придумали не сами. Вычитали в газете и повторили у себя.
— Кончай, мамаша, — лениво бросил Телицки.
— Жить мне осталось недолго, мальчик. Не зря же ты сидишь передо мной с ружьем. Возможно, единственное удовольствие, оставшееся у меня, высказать все, что я думаю о тебе и о твоих дружках.
— Я же сказал, заткнись!
— Было время, когда я могла читать о таких чудовищах, как ты, мальчик, и испытывать к ним жалость. Можете ли представить? Я говорила себе, что у них не было дома, не было любящих родителей, заботящихся о том, чтобы они выросли порядочными людьми. Никто из вас не нашел цели в жизни. Кто в этом виноват? Войны, бомбы, что-то еще? Но знайте, те же преграды стояли и перед Тьюзди. Первая мировая война, вторая — и, будь у нас дети, их послали бы в Корею и во Вьетнам. Отец Тьюзди участвовал в испано-американской войне, дед — в гражданской. Всем доставались и войны, и бомбы. Но никто из них и представить не мог, что насилие станет развлечением. Они боролись за правое дело и отдали плоды побед вам, а вы надругались над ними. Вы приняли образ врага, мальчики, да и, клянусь богом, вы стали нашими врагами! Но придет день, когда всех этих доброжелателей и болтливых теоретиков, утверждающих, что детям дисциплина не нужна, отодвинут в сторону, а вас как следует высекут, и поделом. А может, бог пошлет нам еще один потоп, ибо он знает, что мы должны начать все заново.
— И этот потоп будет называться водородной бомбой, — вставил Питер.
Эмили с силой поставила чашку на стол.
— Я не уверена, что мне полегчает, если я выговорюсь, но в одном можете не сомневаться, мальчики, — мне вас не жаль. Умрете ли вы здесь, на этой горе, или, если вам сейчас повезет, позже, в газовой камере, где бы я ни была, вы услышите мою благословенную молитву.
Дьюк захлопал в ладоши.
— Жаль, что вы не сможете выступить на сцене, мамаша. Ваш монолог украсил бы любой водевиль.
Но Телицки не думал смеяться. Он наклонился вперед, на шее вздулись вены.
— Ты слишком много говоришь, мамаша. Когда придет время, я с радостью заткну тебе пасть.
— Может, ты хочешь рассказать нам о своем трудном детстве, мальчик, подлил масла в огонь Питер.
— Может, и хочу! — взревел Телицки. — Я скажу, почему мне плевать на любого из вас. Знайте, что я уважаю только свои мускулы и умение уломать любую девчонку, что попалась мне на пути. Возможно, я заставлю эту бледнолицую фригидную неженку относиться ко мне с должным почтением. Все, что мы получали от вас, так это разговоры. Кто из вас пытался облегчить нашу жизнь? Слова, слова, слова. Вот этот старик только и делал, что рисовал толстую задницу своей бабы! Вы ничего не давали нам, никогда. Вы живете в своем уютном мирке и покрикиваете на нас. Что ж, таким, как я, это надоело, и мы еще возьмем власть и в городах, и в деревне, везде. И погоняем вас перед смертью, но даже этим вы не расплатитесь с нами за те условия, в которых нам приходится жить. Хотел бы я иметь бомбу, о которой вы говорили. Я отлично знаю, как ей распорядиться.
Тяжело дыша, Телицки вскочил со стула, и на мгновение Питеру подумалось, что он бросится на них. Но светловолосый здоровяк, не выпуская из рук ружья, отошел к окну.
На кухне воцарилась тишина. Питер взглянул на часы. Крамер и Мартин давно уже притаились у проселка, а Тьюзди, должно быть, уже приехал в Барчестер.
Разум и логика были здесь не в чести. Единственное, что им оставалось, — ответить на силу силой. Но как?
Солнечные лучи били в окно. Эмили мыла грязную посуду, скопившуюся после завтрака. Питер с восхищением наблюдал за ней. Ни разу не упомянула она о страхе за собственную жизнь. Ее волновали лишь терзания Тьюзди. Линда права. Эти старики познали истинную любовь.
— Я никогда не пыталась определить для себя, что такое мужество, прошептала Линда. — Я не принимала его как должное. У хороших людей оно есть, у плохих — нет. Не знаю, как мне встретить грядущее, Питер, — дрожь пробежала по ее телу.
— Еще неизвестно, что нас ждет.
— Известно. Я знаю, что они приготовили для меня.
— Не думайте об этом, — едва ли Питер мог дать более бесполезный совет.
— Ребенком я боялась идти к дантисту. Говорила себе, что пробуду у него не больше часа, потому что придет следующий пациент, но зато мне вылечат зуб и он не будет беспокоить меня. Можно выдержать все что угодно, если знаешь, что испытание кончится и тебе станет лучше.
— Это позиция религии, — Питер думал о том, как отвлечь Линду. — Ад на земле, рай — на том свете.