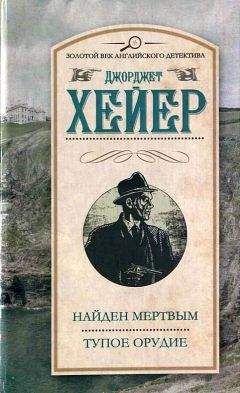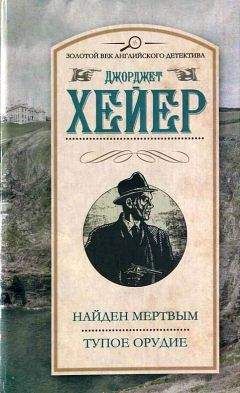Усмехаясь, Ханнасайд положил трубку. Привет он решил не передавать: слишком неприветливым казался ему Гласс.
— Ну, Гласс, вы славно потрудились над этим делом. Думаю, вы обрадуетесь, что некоторые отпечатки пальцев идентифицировали.
Суперинтендант явно просчитался.
— Я вижу «всюду горе и мрак, гнетущую тьму»[26], — отозвался Гласс.
— Так можно сказать про любое убийство, — едко заметил Ханнасайд, давая понять, что разговор окончен.
Сержанта Хемингуэя Ханнасайд застал в прекрасном настроении.
— А у вас как успехи, шеф? — спросил Хемингуэй. — У меня день был просто сумасшедший.
— Кое-что прояснилось, — ответил Ханнасайд. — Досадно лишь, что Гласс не нашел орудие убийства.
— Наверное, он целый день сам себе молебны устраивал. Когда уж там орудие убийства искать? — съязвил сержант. — Эх, чувствую, быть Глассу моим крестом!
— Скорее, наоборот: это вы его крест, — ухмыльнулся Ханнасайд. — Он что-то говорил о коварном сердце и лукавом языке. Думаю, речь о вас.
— Неужели? Хорошо змеем или дьявольским отродьем не назвал. Впрочем, еще не вечер. Пусть цитирует Писание, на здоровье, хотя, строго говоря, дисциплину он нарушает. Главное, чтобы меня спасать не вздумал. Однажды меня уже спасали, того раза вполне достаточно. Более чем! — добавил Хемингуэй, вспомнив некоторые подробности своих мытарств. — Гнусные буклетики о заблудшей овце и греховности пьянства… Каждый из этих проповедников считает тебя воплощением порока, смех один!
Ханнасайд знал, что любимая тема давно завела бесстрашного сержанта в дебри бранных слов и экстравагантных теорий, поэтому спешно вмешался и попросил доложить о проделанном за день.
— Находки мои очень интересные, — начал сержант, — но, как справедливо говорит Гласс, темные. Возьмем, к примеру, нашего друга Эйбрахама Бадда. С ним связан сюрприз номер один. Приезжаю сегодня утром в управление, а меня ждет его светлость собственной персоной.
— Бадд? — переспросил Ханнасайд. — Хотите сказать, он сюда приезжал?
— Да, шеф. Явился, как только прочел новости в вечерней газете. Еще немного, и вечерняя пресса начнет до завтрака появляться. Как бы то ни было, мистер Бадд держал газету под мышкой и буквально источал готовность помочь.
— Продолжайте! — велел Ханнасайд. — Ему что-нибудь известно?
— Ничего особенного, — ответил сержант. — По словам Бадда, он ушел от Флетчеров через садовую калитку примерно в 21:35.
— Так или иначе, это подтверждает слова миссис Норт, — заметил Ханнасайд.
— Шеф, вы что-нибудь от нее добились?
— Да, но лучше рассказывайте дальше. Если Бадд ушел от Флетчеров в 21:35, то видеть ничего не мог. Зачем он тогда явился в Скотланд-Ярд?
— Струсил, — коротко ответил сержант. — Я много читал о законах причинности, и для меня не секрет, что…
— К черту законы причинности! Чего испугался Бадд? Только не надо про раннюю фрустрацию или про торможение — мне не интересно. Понимали бы хоть, о чем говорите!
Сержант давно привык к такой реакции, поэтому лишь вздохнул.
— До причины страха мистера Бадда я еще не дошел. Он именует себя независимым маклером. Насколько я понимаю, покойный Эрнест прикрывался им всякий раз, когда совершал сделки, которые, мягко говоря, совершать не стоило. По крайней мере такой вывод напрашивается с учетом известных нам фактов и застенчивости нашего друга Бадда.
— Черный маклер? Так я и знал. В бумагах Флетчера несколько копий писем к нему и парочка ответов. Внимательно просмотреть их я не успел. Зачем Бадд пожаловал в девять вечера в Грейстоунс?
— Тут и начинаются загадки, — ответил Ханнасайд. — Если честно, до конца Бадду я не поверил. Пот с него так и катил. Впрочем, он же толстяк, а день сегодня жаркий. Если коротко, Бадд не понял суть секретных указаний, которые покойный Эрнест по телефону дал относительно… хм, секретной сделки. Наш друг Бадд решил не доверять столь деликатный разговор телефону и лично отправился к покойному Эрнесту.
— Правдой тут и не пахнет, — отметил Ханнасайд.
— Не то слово! Зато жареным пахнет, хоть окно открывай. Но ведь нужен нам вовсе не Бадд, поэтому давить я на него не стал. Только поинтересовался, не привело ли вышеупомянутое замечание к размолвке с покойным Эрнестом.
— Правильно, — одобрительно кивнул Ханнасайд. — И что ответил Бадд?
— Бадд излил мне душу, как на исповеди! — воскликнул сержант. — В доброте моей сердечной дело или нет, но он раскрылся, словно цветок по весне.
— Давайте без лирических отступлений, — попросил Ханнасайд.
— Как скажете, шеф. Бадд проникся ко мне, как к родному Буквально источал елей и невероятную откровенность. Ничего от меня не утаил, во всяком случае, ничего такого, что я уже не пронюхал. Имела место небольшая размолвка, ибо покойный Эрнест считал, что определенные указания выполнены, а из-за неверно понятой фразы при телефонном разговоре и по ряду других причин они выполнены не были. Впрочем, покойный Эрнест подавил свой гнев, воцарился мир, и расстались они братьями.
— Весьма правдоподобно, — заметил Ханнасайд. — Возможно, так и случилось.
— Да уж, — отозвался сержант. — Скажу больше: хотя моей любви к психологии вы не разделяете, я чувствую, когда человека лихорадит. Бадд удерживал себя в руках ценой огромных усилий. Буду справедлив: у него получилось. На вопросы он отвечал не задумываясь, я едва успевал их задавать. А как описал свое состояние в момент, когда прочел о гибели Эрнеста!.. Не просто картина, а шедевр! Сперва он чуть не обезумел от горя, а потом сообразил: трагедия разыгралась менее чем через полчаса после его ухода от покойного. Понадеялся было, что останется в стороне, но тотчас вспомнил, как отдал свою визитку дворецкому покойного Эрнеста и как покойный Эрнест громко его отчитывал. А тут еще одна страшная мысль: покойный Эрнест проводил его до садовой калитки — их не видела ни одна живая душа. Малыш Эйбрахам проанализировал все эти факты и понял: ситуация опасная, следует отправиться прямиком к добрейшим полицейским, которых он сызмальства считает своими лучшими друзьями.
— Чересчур правдоподобно, — нахмурился Ханнасайд. — Как вы поступили?
— Дал ему конфетку и отпустил домой к маме! — без запинки ответил Хемингуэй.
Ханнасайд отлично знал сержанта и одобрил его нестандартный ход:
— Да, это самое верное решение. Бадд с крючка не сорвется. Так, а что с Чарли Карпентером, о котором вы говорили по телефону?
На миг Хемингуэй даже балагурить перестал.
— Это сюрприз номер два! Я уже подумывал, что из отпечатков пальцев ничего путного не выжмешь, а тут на тебе! — Хемингуэй взял со стола папку и протянул суперинтенданту. В ней лежали портрет молодого мужчины, два комплекта фотоснимков с отпечатками пальцев и краткая справка о некоем Чарльзе Карпентере двадцати девяти лет, ростом пять футов девять дюймов, весом сто шестьдесят фунтов, сероглазом шатене без особых примет.
У Ханнасайда медленно поднимались брови: он читал о мелких правонарушениях, завершившихся полуторагодичным сроком за мошенничество.
— В самом деле сюрприз, — проговорил суперинтендант.
— С какого он тут боку, да? — подсказал Хемингуэй. — Я тоже так подумал.
— Красавчик, — отметил Ханнасайд, вглядевшись в портрет. — Волосы наверняка завиты. Ладно, сержант, вас так и распирает от новостей. Выкладывайте!
— Дело Карпентера вел Ньютон, — начал Хемингуэй, — и помимо этих грешков почти ничего о нем не выяснил. Молодой повеса без роду-племени, но с жаждой славы. Немного поет и танцует, пробивался на эстраду — без особого успеха. Одно время был жиголо в дешевом ист-эндском дансинге: дамам он нравится, сами говорите, красавчик. В общем, человек явно не круга покойного Эрнеста! Я уже засомневался в гениальности Бертильона[27], когда Ньютон обронил фразу, представившую все в новом свете.
— Какую же?
— На момент ареста — случилось это, как вы поймете из записей, в ноябре 1934 года — Чарли жил с актрисой по имени Энжела Энжел.
— Энжела Энжел? — Ханнасайд поднял голову. — Около года назад было дело некоей Энжелы Энжел. Девушка ведь покончила с собой?
— Шестнадцать месяцев назад, — уточнил Хемингуэй и открыл папку, в которой хранил бумаги Эрнеста Флетчера. Сверху лежала фотография. — А это, шеф, Энжела Энжел собственной персоной.
Ханнасайд взял фотографию: несколько часов назад эта самая девушка показалась Хемингуэю смутно знакомой.
— Ньютон упомянул ее имя лишь потому, что той девушкой занимались отдельно, и я сразу вспомнил, — начал Хемингуэй. — Ее дело вел Джимми Гейл, от него я тогда кое-что и слышал. Бедняжка покончила с собой, а почему, так никто и не выяснил. Не в залете, танцевала в кабаре Дьюка, держала на счете приличную сумму, а однажды вечером сунула голову в газовую духовку. На первый взгляд в деле ничего подозрительного, однако отдельные моменты Гейла заинтересовали. Во-первых, девушка не оставила предсмертной записки, что, с точки зрения Гейла, необычно. В девяти случаях из десяти самоубийца пишет записку, из-за которой какой-нибудь бедолага до конца дней своих чувствует себя убийцей, заслужил он того или нет. Энжела не написала. Более того, так и не удалось выяснить ее настоящее имя. Даже счет в банке она открыла на имя Энжелы Энжел. Родных у нее, похоже, не было, а если и были, то так и не заявили о своих правах. Изливать подружкам душу она, судя по всему, тоже не любила. По большому счету никто из девушек ничего о ней не знал. Разве только то, что за семь-восемь месяцев до самоубийства Энжела подцепила приличного джентльмена, который снял ей уютную квартирку со всеми удобствами.