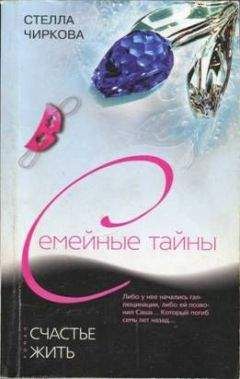— У нас в любое время полно народа. Основной приток — после девяти вечера.
— Хорошо.
— Но оформлять тебя будем только через неделю, пока станешь как бы на стажировке, без зарплаты. Если будешь обслуживать в это время какие-то столики, чаевые можешь оставлять себе.
— Договорились. Спасибо большое. Вы не разочаруетесь, что взяли меня.
Иветта, почти подпрыгивая, направилась к выходу.
— Эй, подожди… Тебя как зовут?
— Здесь меня называют Светой.
— Свет, а тебе неинтересно, какая зарплата? Или ты стесняешься спросить?
— Я не стесняюсь. Мне неинтересно, — призналась Иветта, — мне интересно работать. Думаю, что вряд ли зарплата будет ниже той средней, которая принята в этом городе.
После ухода Иветты Мария задумалась. Ей было под сорок. Иветта показалась ей совсем юной, почти подростком. Интересно, почему симпатичная молоденькая девочка так радуется, получив тяжелую работу в не самом престижном и высококлассном заведении? Надеется подцепить мужика? Но сюда ходит далеко не лучший контингент, да и потом, девчонка приехала из Москвы. Вряд ли из Москвы едут за мужиком в Переславль-Залесский, да еще устраиваются работать официанткой в ночной бар. На наркоманку или запойную Иветта не похожа — у нее чистая кожа, ясные глаза и новая хорошая одежда. Неужели скрывается от закона, поэтому сбежала в маленький городок, надеясь, что здесь не станут искать?
Мария рассказала о незнакомой девушке соседке-подружке.
— Что-то тут нечисто — но я не пойму что.
— Сомневаешься — не бери ее. Проблем-то. Желающих мало?
— В том-то и дело, что мало. Крокодила и неумеху брать не хочется, а красивая девчонка с опытом работы устроится в «Риту» или «Ботик», где иностранцы и просто богатые туристы. А она тут рвется работать — и я вижу, что искренне собирается выкладываться.
— И что тебе еще надо? Тебе надо, чтобы она работала, — она будет работать.
— А вдруг у нее какие-то проблемы с законом?
— Ты не Интерпол. Ты обязана ее оформить, но не обязана проверять ее биографию с рождения. Если она даже в бегах — тебя обвинить не в чем. Пришла девчонка, ты ее взяла на работу. Проблем-то.
— А вдруг она скрывается не от ментов, а от бандитов?
— Я тебя умоляю… ты начиталась детективов. Кому нужна соплюшка, которая идет работать официанткой? Московская мафия интересуется совсем другими женщинами, даже я это понимаю.
— Но почему она тогда уехала из Москвы и жаждет подавать нашим уродам водку и салаты?
— У всех свои тараканы. Почему вот ты, красивая и умная баба, прекрасная хозяйка и с деньгами, терпишь своего алкаша?
Мария нахмурилась. Подруге Тане бесполезно было врать, как другим, что Сережа закодировался, что он изменился и хочет нормальной семьи — бесполезно врать не потому, что Таня была детектор лжи, а потому, что Таня жила в соседней квартире и отлично слышала, какой Сережа ласковый и нежный. Знала, что он регулярно запивает, водит к Марии друзей, орет с ними матерные песни, отбирает у нее деньги и даже периодически поколачивает. От соседки не скроешь происхождение синяка под глазом — она видела, что ты не падала с лестницы.
— Молчишь? Правда глаза колет? Нет, ну серьезно, кто ты и кто он. У тебя в жизни есть все, тебя природа такой фигурой наградила, мне бы твою задницу, я бы замуж вышла за миллионера, а ты… И ведь понимаешь, что он козел, что он не изменится, а зачем-то с ним живешь. Он тебе даже не муж, он даже до ЗАГСа с тобой поленился дойти.
— Таньк, хватит, а? С тобой всегда так — начнешь за здравие, кончишь за упокой.
— Я надеюсь, что ум у тебя проснется.
— И куда он проснется? Мне сорок лет скоро, Таньк, я старуха. Если бы мне было восемнадцать — я бы перебирала. А так остается хватать что есть. Или буду, как ты, одна коротать вечера.
Теперь нахмурилась Танька. Она уже пять лет жила одна и надеялась, что встретит того самого принца, которого проглядела в юности, увлеченная хулиганистым симпатичным парнишкой с ямочками на щеках и родинкой на верхней губе. Эти ямочки и эта родинка сразили Таньку наповал то ли в восьмом, то ли в девятом классе, а к одиннадцатому ее избранник, уже успевший стать первым мужчиной и наобещать золотые горы, впервые сел за грабеж. Танька лила слезы, отец трясущимися руками доставал из брюк ремень, мать пила корвалол ложками, а веселый Вовка писал ей из колонии для малолеток нежные письма, обещал жениться, остепениться и заработать много денег.
Вовка вернулся, почти силой забрал Таньку от родителей, быстро сделал ей ребенка и снова сел — снова за грабеж. В пьяном виде его тянуло «куражиться», а лучшего куража, чем ограбление магазинов, Вовка не знал. Мать заставила Таньку сделать аборт — а остальные семь Танька сделала сама, уже понимая, что в отцы Вовка не годится. Потом его убили в какой-то драке на зоне — видимо, он и там пытался показать свой особенный кураж — Вовка был вспыльчив с детства, сразу кидался с кулаками.
Таньке было тридцать лет, и весь город знал про них с Вовкой и даже про ее аборты, наверное, тоже знал. Выбирать не приходилось — она вышла замуж за вдовца с двумя дочерьми — он часто покупал продукты в магазине, где она работала продавцом колбасного отдела. Если у Вовки веселья и того самого куража хватало на двоих, вдовца природа обделила — может быть, его доля досталась Вовке. Вдовец в свои тридцать пять казался Таньке глубоким стариком, от него даже пахло смесью ладана и мышей. В постели она скучала, а вне постели просто вешалась от тоски. Тем не менее жили неплохо — она привыкла к девчонкам, младшая, трехлетняя, даже стала звать ее мамой. Закрутилась по хозяйству — прибегала с работы и мыла, стирала, гладила, варила, — чувствовала себя нужной, вдовец после смерти жены запустил и себя, и детей. По имени она его никогда не называла — и даже, обсуждая дела с Марией, говорила — мой вдовец. Это был диагноз. Исчерпывающий приговор.
Тем не менее, когда вдовец ушел от нее, она рыдала не меньше, чем по Вовке. Казалось, что ее оскорбили и предали смертельно — и боль порвет душу пополам. Танька лежала на кровати и выла, а Мария прыгала вокруг нее, совала какую-то еду и уговаривала не изводить себя.
Танька не могла забеременеть — возможно, сказались те самые аборты, а вдовец хотел сына. Его повысили в должности, в доме прибавилось денег, и он возжелал наследника. Танька старалась — не получилось, тогда вдовец нашел ту, у которой получилось. Вроде бы закономерно. Но почему-то обидно до острых слез, от которых в груди становилось сухо, а виски сжимало стальным горячим обручем.
С тех пор Танька жила одна, постепенно расплылась, выбросила банки с кремами, перестала носить нарядное белье и окончательно превратилась в очередную золушку, так и состарившуюся, но не дождавшуюся принца. С Марией они вечно ругались, сочувствовали друг другу и удивлялись — как можно вот так — одной, и как можно вот так — с кем попало. На самом деле временами Мария завидовала Таньке, а Танька Марии. Наверное, поэтому их дружба продолжалась много лет.
— Ладно, извини, не буду. — Мария дотронулась до Танькиного плеча.
— Я сама напросилась, — пошла на попятную Танька.
— Так что с девчонкой делать?
— В любом случае возьми ее. Она наверняка быстро кому-то растреплет, почему сбежала из Москвы и зачем так рвалась работать официанткой. Такие вещи в секрете не удержишь.
— И что?
— Да ничего. Как только ты узнаешь, почему она так сделала, сможешь решить, что дальше. Если у нее какая-нибудь несчастная любовь-морковь или дурь в одном месте заиграла — оставишь, если криминал какой-нибудь — возьмешь да уволишь.
— И то верно.
Мария возвращалась домой абсолютно спокойная. Даже сама себе удивилась — сколько значения придала обычной молоденькой глупышке. Вот так, наверное, и превращаются в старых занудных бабок, которые целыми днями сидят на лавочке и обсуждают всех вокруг, не имея собственной жизни.
Сережа ночевать не пришел. Года три назад Мария не нашла бы себе места — обзвонила бы всех знакомых, бегала по улицам, искала в барах, позвонила бы в милицию, но теперь она привыкла, поэтому не спеша разделась, натерла лицо, шею и грудь кремом, поставила будильник с получасовым запасом (чтобы успеть сделать маску и уложить волосы) и спокойно заснула.
Мария Викторовна решила сдавать комнату не потому, что ей не хватало пенсии. Пенсия, конечно, была мизерная, но причина крылась не в деньгах. Старая дама чувствовала себя одинокой. Большинство учеников, которых она любила, будто собственных детей, разъехались — кто-то в Ярославль, кто-то в Москву, двое даже подались за границу. Сын тоже уехал — она не решилась его удерживать, в Переславле действительно не хватало работы, и образование получить тоже было негде. Да и сын был неродной. Детей у Марии Викторовны не родилось. Она вышла замуж после войны за своего одноклассника и жениха — да только вернулся он с фронта героем с медалями и инвалидом. По-честному предупредил невесту, что детей у него быть не может, зато появились головные боли, посажен желудок и испортился характер. Действительно, Петр Михайлович страдал приступами мигрени и приступами раздражительности попеременно: плохо спал, иногда мелочными придирками доводил жену до слез, не выносил чужих людей в доме и малейшего нарушения однажды заведенного порядка. Мария Викторовна удивлялась такому превращению, но понимала: война. Как в той старой песне: «Ах, война, что ж ты, подлая, сделала…» — восемнадцатилетний веселый и наивный мальчишка вернулся домой угрюмым, своенравным пожилым мужчиной. Но Мария Викторовна — тогда просто Маша — ждала его четыре долгих года, любила, писала письма и плакала по ночам, если от него долго не приходило ответа, — она приняла Петра Михайловича таким, каким он стал.