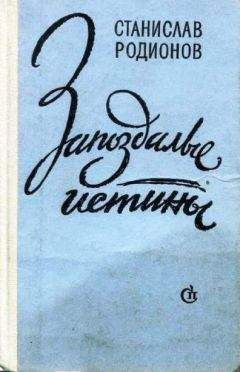— От злости на этого ньюфа.
— Почему же не кусает его?
— Боится, на меня переносит…
Рябинин смотрел на хозяина собаки, теряя чужое лицо в какой-то воспалённой мгле, словно меж ними лёг туман всего леса.
— Что с вами? — насторожился мужчина.
— Нет-нет, ничего…
Рябинин вышел на дорогу, где остатки розового тумана доедали остатки раннего снега.
Перенос. Как же он забыл про это странное психическое состояние? Как же он забыл про гениальную народную замету — сорвать зло на другом? Не понял сказанную Верой Игнатьевной, свидетельницей, пословицу «кричит на кошку, а думает на невестку»?
Частенько горе подступает неспешно, как бы давая человеческой душе приготовиться. Но душа не хочет его, бьётся душа, пытаясь стать неприметной и спрятаться. Не спрячешься. Тогда душа пробует отпихнуть горе, оттолкнуть его подальше. Но куда — в космос? Некуда. Мечется душа и смотрит на людей: почему горе у меня, почему не у них? А может быть, не у меня, а может быть, у них? У них, у них! И слабая душа захлёбывается от призрачной надежды, и у слабой души хватает лишь сил вытеснить плохое и впустить хорошее. Конечно, горе у них, у других…
Мимо проехал многотонный грузовик с сосновыми брёвнами. Рябинин вдохнул запах смолы, который за эту секундную встречу перебил все другие запахи — и выхлопного газа, и мокрой земли, и прелых листьев…
Анна Слежевская противилась семейному горю сколько могла. Чем хуже становилось в доме, тем больше она похвалялась хорошим мужем и детьми. И когда стало невмоготу, она бессознательно перенесла своё горе на других. На любого. На Мелентьевну, вовремя сказавшую слова о вёдрах и убийстве. Теперь Слежевская знала причину своего горя — Мелентьевна хочет её убить. И повторяла это, и убеждала себя. И стало ей легче, ибо для слабой души покой дороже правды.
Рябинин скоро подходил к посёлку. Его промокшие ноги горели от быстрой ходьбы. И вроде бы сырой носок стёр пятку.
Но в посёлке Рябинин притормозил свой ход. Ему захотелось поговорить с Верой Игнатьевной — она могла знать больше, чем сказала в клубе. И он никогда не избегал общения с человеком, который умел заглядывать в душу чуть глубже, чем все остальные.
Рябинин знал её адрес. Он отыскал зелёненький домик на улице Зелёной и увидел хозяйку, выходящую из калитки.
— Здравствуйте, Вера Игнатьевна.
— Здравствуйте.
Её лицо, озарённое удивлением, стало опять простодушным — как в клубе. Они пошли рядом в сторону магазина.
— Я хотел вас спросить… Верно ли, что Слежевские жили без скандалов?
— Это весь посёлок видел. Знаете, как они трогательно шли по улице? Как молодожёны.
— Да, — вздохнул Рябинин, сразу ощутив сырость носков и пронзительность талой воды.
— Но я думаю, что жили они ужасно, вдохнула и Вера Игнатьевна.
— Вы же только что сказали, что весь посёлок видел…
— Это я сказала от ума. А теперь говорю от сердца.
— Вера Игнатьевна, не могло же ваше сердце ни с того ни с сего… Ведь, наверное, были факты?
Она помялась и глянула на следователя искоса, решая, стоит ли говорить этому человеку то, что никак не шло у неё с языка.
— Был и факт…
— Какой?
— Цветы у них вяли на окнах.
Рябинин видел эти вялые цветы в день осмотра дома.
— Ну и что? — неуверенно спросил он.
— Анна их поливала, ухаживала, а они не росли. Когда в доме ругаются, то цветы чахнут. Вам смешно?
— Нет, — убеждённо ответил Рябинин.
Если от ругани чахнут люди, то почему бы от ругани не чахнуть цветам?
Впервые за время этого следствия Рябинин пропустил день и не побывал в избушке. Поэтому утром он бросил все дела, избежал всех вопросов, что-то буркнул Петельникову и в шляпе, севшей набекрень, воровато выскользнул из клуба. На улице, отцентрировав шляпу, он удивился — почему, отчего? Зачем таится? Что таить?
Известно, что расследование уголовного преступления есть непростой клубок психологической борьбы не только следователя с преступником, но и со свидетелями; и свидетелей с преступником; и следователя с инспектором; и инспектора со следователем; и преступника — со всеми. Но была и ещё одна странная борьба.
Следователь прокуратуры, юрист первого класса Сергей Георгиевич Рябинин, человек логичный, не верящий ничему без доказательств, бескомпромиссный, с укоряющими глазами — вот этот человек боролся с Серёжей Рябининым, с мягким парнем, у которого взъерошенные волосы, близоруко прищуренные глаза за сильными стёклами очков, неутверждающая речь, бесконечные сомнения и тихая жалость, приходящая часто и ненужно. Борьба этих двух людей не имела победителя и не имела конца. И расследование уголовного преступления заканчивалось, когда эти двое находили общий язык, сливались в единого, как и должны бы сливаться сердце с разумом в личности цельного человека…
Рябинину показалось, что в избушке что-то не так. Или слишком долго он тут не был, целый день? В избушке изменилось — холодный чайник стоял на далёком краю плиты, на тёплых боковых кирпичах. И Слежевский не сдвинул его на горячую середину.
— Долго вас не было, — буркнул он.
Рябинин тускло улыбнулся. Слежевский заскучал? Или его томило одиночество? Или пришлось день молчать, а ему нестерпимо хотелось выговориться? Но вулканическая мощь слов разрывает обычно преступника… Слежевский — потерпевший; Рябинин признал его потерпевшим.
— Как жизнь, Олег Семёнович?
— Шутите…
— Не забывайте про детей.
— В романах пишут о прекрасной смерти супругов. Умерли в один день… А если есть дети? Им-то каково потерять сразу обоих родителей?
— Ваши обоих не потеряли. — Рябинин поправил очки, вздыбя стёкла под таким углом, чтобы они усилили его зоркость до биноклевой.
— Не потеряли, — ответил Слежевский с невероятной тоской.
Рябинин вдруг подумал про обман и про обманы, которые ему всегда претили. И не только по моральным запретам — он страдал бы от брезгливости, если бы опустился до трусоватой лжи, именуемой обманом. Но была ложь почти святая, придуманная слабым человеком, — когда обманываешь самого себя. И Рябинин — не тот, не юрист первого класса — тоже бессознательно прибегал к ней, как и все смертные. Потому что… Потому что проще всего обмануть себя.
— Я не сплю, — сказал Слежевский.
— Почему? — зряшно спросил Рябинин.
Слежевский и не ответил.
— Сергей Георгиевич, бог есть?
— У каждого свой бог, — сказал Рябинин опять зряшно, потому что Слежевский мог спросить, какой бог у него, у следователя.
— Нужен общий.
— Зачем он вам, Олег Семёнович?
— Кто-то должен нас с Анной рассудить…
— Люди.
— Кто — вы?
— Я не могу.
— Почему же? Вы юрист… Фемида…
— Я не выслушал вторую сторону.
— А мне… не верите?
— Ваши факты… — начал было Рябинин.
Слежевский ринулся через стол — лёг грудью на столешницу, разбросал руки и вскинул голову. Как упавшая птица. Его воронёные волосы оказались так рядом, что в стёклах очков следователя потемнело.
— А я добавлю фактов! Если жена зовёт беременным мужиком, при детях, а?
— Да… — нашёл Рябинин самое нейтральное слово.
— А если спрашивает при детях, не потратил ли я недостающую трёшку на бабу?
— Да…
— А где я ночую, если приду после двенадцати? Дом закрыт на ключ, эта избушка на замок. Сплю на земле, в кустах смородины. А?
— Да…
— А когда возвращаюсь из командировки, то моя одежда обыскивается и просматривается, как у шпиона.
— Да…
— А если тарелка супа летит мне в лицо, при детях?
— Вы её ненавидите… даже мёртвую, — удивлённо перебил Рябинин его поток.
— Мёртвые — самые страшные. Им даже отомстить нельзя.
Слежевский оттолкнулся от стола и выпрямил сухощавое тело. Его чёрные глаза вдруг засветились кровавым непроходящим огнём, таким сильным — особенно правый глаз, — что от него окровавилась и правая щека. Рябинин беспомощно огляделся — что?.. Печка приоткрылась, бросая из щели адскую полоску.
— Олег Семёнович, вы говорили, что любви научились в детстве, в семье… А где вы научились ненависти?
— У Анны, — не задумался он.
— Чем вы её ударили? — буднично спросил Рябинин.
— Поленом.
— Когда же?
— Мы пошли с Геной… А я на минутку вернулся, забыл попросить денег на обед. И тогда…
— За что ударили?
— За всё.
— Так, внезапно?
— Она сказала, что деньги я истратил на баб. Не утерпел. Накопилось. Но убивать не хотел, честное слово!
— А беспорядок в комнате?
— Раскидал всё…
— Шофёра?
— Придумал. Хотел остаться с ребятами…
— Раньше ей угрожали?
— Да.
— Говорили, что ударите по голове, — утвердил Рябинин.