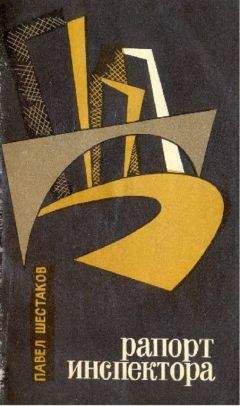— Значит, мстить решила?
— С чего ты взяла?
— Тебе лучше известно.
— Не выдумывай, Ларка! Пойду я лучше.
— Нет, подожди. Ответь сначала, что ты задумала — в тюрьму меня посадить или только грязью облить, из театра выжить?
Лариса говорила напористо, по-хозяйски положив локти на стол.
— Тронулась? — спросила Шура пораженная.
— Я не тронулась. Мне соображать нужно, раз ко мне милиция ходит по твоим наговорам. — И вдруг, швырнув догоревшую спичку, Лариса выкрикнула: — Это же подло! Подло!
— Постой, Ларка.
— Нет, я скажу. Если Вовка и любил меня и даже погиб из-за меня, как ты вообразила, то при чем тут грабеж, при чем?
— Грабеж? — возразила Шура неуверенно, и Лариса эту неуверенность тотчас заметила.
— Ага! Спрашиваешь? Нет уж, не притворяйся! Ты же честная, прямая Шурочка Крюкова, не то, что я, Ларка-кривляка, как вы меня прозвали. Как же ты открытыми глазами на меня смотришь и врешь? Брось, дорогая. Не хватает тебе профессионального мастерства невинность изображать. Значит, не знаешь, не ведаешь, зачем ко мне Мазин приходил?
Шура по-детски багрово покраснела. Конечно, ей и в голову не приходило, что слова ее о злосчастной монету поставят Ларису под тяжкое подозрение, а еще хуже, что эта не уважаемая ею, не любимая, виноватая перед их семьей, Ларка уличает ее в обмане: ведь сказал же Трофимов, что ходила милиция к актрисе, а она, Шура только что смалодушничала, сделала вид, что не понимает, о чем речь, и тем самым поставила себя на одну доску с лживой Ларкой, Шуре стало стыдно: и гордость страдала, и тяготило чувство допущенной несправедливости. Если уж и виновата она, так не из тех, кто от вины увиливает.
— Кто к тебе приходил, не знаю, а тому, что у меня был, сказала, что ты Вовке монету подарила.
— Соврала?
— Почему соврала? Я так думала.
Лариса зажгла другую спичку, затянулась, успокоилась как будто, сказала потише:
— Знаешь, Шура, другой бы я не поверила, а тебе верю.
Шуре это понравилось:
— А напустилась чего?
— Ты б тоже напустилась. Они ведь бандитов ищут, что напали на институт. Связали это дело почему-то с нашей дурацкой монетой. При чем тут монета, я, хоть убей, не понимаю, но на меня-то ты их вывела!
— Я тогда про банду не знала ничего. Это он сегодня сказал.
— Кто?
— Да Трофимов. Прямо к проходной явился. Провожал, ты ж видела.
— Вот оно что. А я подумала, ухажер.
— Какой ухажер!..
— Что ж его на этот раз интересовало?
Шура рассказала, а Лариса слушала внимательно, стряхивая пепел в пепельницу. Выслушала, сказала не враждебно, но сухо, осуждающе:
— Много ты зря наговорила.
— Что, по-твоему?
— Ну, насчет монеты.
— А что тут такого? При чем тут банда?
— Не знаю, не знаю. Сказала же тебе, что не знаю. Но сама сообрази. Является к тебе милиционер, выслушивает бабскую чепуху про любовь, про сувенирчик и уходит. Все, кажется? Ничего подобного. Возвращается. Значит, придал чепухе значение. Понимаешь? Значит, сложилась версия. Слыхала слово такое? Вот. Короче, возвращается и снова внимательно выслушивает чепуху. Зачем? Потому что пытается нашу чепуху к своей версии приспособить. А что за версия? Не знаю, но ясно, замешали туда Вовку, твоего брата, про которого знаем мы, что он за парень а они не знают. И ты им помогаешь память его очернять. Вот как, милая, не обижайся, а так получается.
Шура была подавлена. В той жизни, где существовала она, не было места хитростям и интригам, а тем более преступлению, и вот на тебе, смешалось все, перепуталось.
— А я, если уж хочешь, монету Вовке никогда не дарила, — подвела как бы черту Лариса и замолчала, глядя мимо Шуры на темное окно за тюлевой занавеской. Вдруг из глаза у нее выкатилась слеза, задержалась на румяной, без грима, щеке и капнула на кофточку. Так Ларка и в детстве плакала, молча. Слезы катятся, а не ревет, в себе переживает, упрямится.
— Брось, Ларка!
— Да я ничего, ничего я. — Она провела ладонью по щеке. — Вовку вспомнила. Оправдываюсь я, вину отрицаю, а может, и вправду виновата? Конечно, не могла я его так полюбить, как он меня. Это уж сердцу на прикажешь. Но ведь ценила я его, друг он был настоящий. Если запутался, попал в беду, должна была я заметить, на помощь прийти. Он же доверял мне. А я ничего не понимала. Думала, от любви страдает. А если и Другое дело, чего не знали мы. Теперь мне за слепоту расплачиваться приходится.
Шура слушала, но слова Ларисы, вроде бы понятные, Доходили до нее с трудом, смысл их был тяжел.
Есть семьи, где любят поговорить о честности. Охотно, с гордостью противопоставить себя другим, нечестным, корыстным людям. Однако в гордости этой нетрудно заметить прикрытое для приличия тщеславие, самолюбование — вот и я, дескать, мог бы быть бесчестным и меть от этого немалые жизненные выгоды, а предпочел добродетель. Постепенно честность, то и дело соизмеряемая с выгодой, становится для таких людей своего рода меной выгоды, причем заменой неравноценной, с горьковатым осадком — хороша, мол, вещь, но уж заплачу но за нее сполна и не переплачено ли?
В семье Крюковых о честности не говорили, как не сообщают люди друг другу, что чистят по утрам зубы Никто здесь не мучился сомнениями, выбирая между честностью и противоположными свойствами, о которые Крюковы, как и все, были наслышаны, но никогда применительно к себе не рассматривали. Жили в этой семье здоровые, ясные люди, благополучные духом. Жили обыкновенно. С судьбой в ладу. С войны отец пришел хоть и с осколками, но живой, и медали заслужил, семью на ноги поставил. Зарабатывали хорошо, построились, дом содержали гостеприимный, с большой, заплетенной виноградом, беседкой во дворе, где в жаркий летний день приятно было посидеть с друзьями, пива выпить, закусить вяленой рыбкой, о жизни потолковать. Была в доме и полка с книгами. Книг было немного, но зато произведения коренные — «Война и мир», горьковские «Университеты», «Тихий Дон», томик Николая Островского, «Повесть о настоящем человеке». Жизнь текла прямая, не пугающая. Уважали Крюковых соседи и сослуживцы, даже уличные дебоширы здоровались почтительно.
И вдруг. Смерть Владимира показалась нелепой, до боли обидной, Шура впервые испытала горе. Горе тяжкое, возмущающее несправедливостью, но все-таки не справедливостью случая, а не злой сознательной воли. Теперь происшедшее открывалось иначе: мало того, что брат оказывался жертвой не несчастного случая, а преступления, но еще и самого его могли причислить к преступникам. И хотя мысль о том, что Володька Крюков мог напасть на людей, чтобы отнять деньги, была для сестры его невероятной, не могла она не видеть, что даже простой и свойский Трофимов чудовищную эту мысль напрочь не отбрасывает, а деликатненько ходит вокруг да около, себе на уме, хоть и прямо высказаться не решается. А что же тогда с Ларки спросить с ее театральным воображением? И ощутив возмущение и беспомощность перед той черной тенью, что ни с того ни с сего пала на их семью, Шура смягчилась к Ларисе, увидев на этот раз в ней не «нарушительницу спокойствия». человека, тоже пострадавшего, находящегося в одинаковой опасности быть несправедливо очерненным, ошельмованным, да еще с ее же, Шуриным, участием.
— Что же нам делать, Ларка?
Она ждала совета, потому что, слушая Ларису, невольно начала надеяться на нее, ведь говорила та складно и вроде понимая, что происходит, лучше ее, Александры, Но Лариса махнула только рукой.
— Давай по рюмке водки хватим, — предложила она неожиданно.
— А ничего. У отца в буфете всегда графинчик стоит про запас. Мать ему на травах настаивает. Лечебную. Выпьем — может, и нам поможет. Что-нибудь сообразим вместе.
— Ну, ты даешь!
Лариса нацедила две стопки из темного графинчика, и они опрокинули, закашлялись и засмеялись.
— Отец выпорет, — сказала Шура. — Не страшно, у меня юбка кожаная.
Шура улыбнулась еще, но тут же снова погрузилась в свое, наболевшее:
— Сволочь этот Трофимов.
— Почему? — вступилась за незнакомого Трофимова Лариса — Ты себя на его место поставь! Это я, что с вами двадцать лет дом в дом прожила, знаю, кто такие Крюковы, что за люди. Знаю, что если вы десять тысяч на дороге найдете, так в госбанк оттащите, А ему откуда знать? У него служба, улики, алиби разные. Им поддаваться впечатлению не положено. Факты ищут.
— И он так говорил.
— Вот видишь? Не разжалобим мы милицию словами. Версию их опровергнуть нужно. Доказать, что не виноват Вовка. Доказать! Понимаешь?
В отошедшей было ото зла Александре вновь шевельнулась неприязнь к Ларисе.
— Что же доказывать, что ты не верблюд? Кипятишься ты больно.
Лариса состояние Шуры поняла.
— Хитрить, Шурка, не хочу. Если они с Владимира подозрения снимут, тогда и меня в покое оставят. Мы тут повязаны одной веревочкой. Помнишь Горбунова, что со мной приходил?