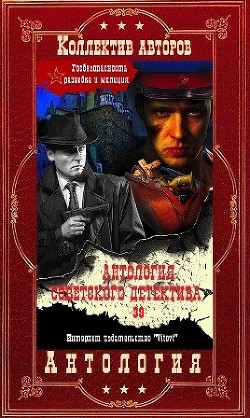― Он левша, Алик!
Бандит надвигался. Он был рядом. Молниеносным движением влево Алик спровоцировал бандита на выпад, а сам, уйдя вправо, правой же нанес прямой удар в челюсть. Бандит головой пошел в землю. Но тут же тяжело поднялся и опять пошел на Алика. Алик подпустил его поближе и провел мгновенную серию: прямой в солнечное сплетение, крюк в печень и страшный апперкот в склонившийся подбородок.
Бандит лег надолго.
Алик стоял и ждал, когда подойдет Саша. Саша подошел и сказал:
― Спасибо. А теперь уйди. Смотреть на это не надо.
Поняв, Алик попятился. Он смотрел на Сашу полными ужаса глазами и медленно пятился.
Бандит пришел в себя и увидел черную дырку парабеллума.
― Не убивай, ― попросил он.
Саша молчал.
― Не убивай, ― еще раз попросил бандит. Он понимал, что любое его движение может вызвать выстрел, но, сам того не замечая, отталкиваясь пятками, спиной скользил по траве.
― Не хочу убивать! ― в ярости воскликнул Саша.
На крик подбежал Алик.
― Вяжи его, ― приказал Саша. Алик вытянул свой ремень, а бандит, перевернувшись на живот, услужливо подставил отведенные назад руки. Своим ремнем Алик связал руки, а бандитским ― ноги. Поднялся.
Саша и Алик стояли и смотрели, как по близкому железнодорожному полотну шел к Москве состав. В настежь распахнутых теплушках, опершись о перекладины, стояли солдаты, все как один, сильно немолодые. Они глядели на Сашу и Алика и, смеясь, махали им руками.
― Демобилизация. Первая очередь, ― сказал Саша.
Заботы пятьдесят третьего года
Хоронили Сталина. Не то, чтобы хоронили там, где ты стоял и плакал, а ― так все хоронили его в те дни.
Зал был небольшой ― в 1953 году только начали по-настоящему строить институт, в котором ты учился. В этом маленьком зале говорили твои знакомцы, и ты знал, что скажет каждый, и ты знал, что скажет каждый из них, и ты ждал немужских истеричных слов, ждал с нетерпением, стесняясь своих слез и гордясь ими.
Потом все выстроились в колонну и пошли прощаться со Сталиным. Рядом с тобой шла женщина, которую ты тогда любил. Рядом с тобой шел приятель, тбилисский армянин Эдик, и скорбь и слезы были на его лице.
Путь долгий: по Ярославскому шоссе к Мещанской (тогда все это еще называлось проспектом Мира), к Сретенке, а затем направо, на Рождественский бульвар.
Шли молча. О чем говорить? Погода была дрянная: то ли легкий мороз, то ли холодная слякоть. Рядом шли еще колонны. Этим путем ходили по праздникам на демонстрации. В иные веселые времена.
На Сретенке незаметно исчез Эдик. Но это было неважно, мало ли что может случиться с человеком в таком горе. Важно было горе, а не Эдик.
Года через три-четыре Эдик расскажет тебе забавную историю. "Усталый раб, замыслил я побег", ― скажет он. "Давно я уже охотился за рижским приемником", ― скажет он. "А тут такая удача: умер Сталин и никого в магазинах", ― скажет он.
Вы будете весело смеяться. Оба. А через тридцать четыре года Эдик умрет в Лос-Анджелесе, тщетно добиваясь все последние годы возврата в Россию. Трамваи не шли, и колонна, повернув направо, потопала по крутому Рождественскому бульвару вниз, к Трубной площади. После тебе рассказали, что творилось внизу, у общественного сортира, где бульвар был перегорожен стоявшими вплотную грузовиками. Рассказали знакомцы из колонны, которая распалась при входе на бульвар. Знакомцы были сильные и молодые и поэтому могли рассказывать ― потом.
Сначала тебя и женщину, которую ты тогда любил, толкнули сзади раз, другой, прижали к впереди идущим, и ты пошел не туда, куда бы тебе хотелось, а туда, куда вела масса людей, толпа, стадо. Единственное, что тебе удалось ― вместе с женщиной, которую ты тогда любил, притиснуться к тротуару и идти не по булыжнику, покрытому ледяной пленкой, а по сырому шершавому асфальту тротуара.
Круче стал спуск, и толпа побежала. У тебя был первый разряд по футболу, второй ― по волейболу, третий ― по легкой атлетике. У женщины спортивных разрядов не было, и ты оттеснил ее к стене дома. Вам повезло: один из оконных проемов, покатый подоконник которого был почти на уровне тротуара, оказался свободным. Ты прижал женщину к заколоченному досками окну и повернулся к бульвару спиной. Стоять на покатом подоконнике было трудно, ноги уставали, но ты был спортсмен-разрядник. Ты смотрел в глаза женщине, которую ты тогда любил, ты очень долго смотрел в ее глаза, тебе надоело видеть глаза.
За твоей спиной кряхтела, дышала, шуршала ботинками толпа. Ты не видел лиц, потому что ты не мог их видеть.
Сколько времени вы стояли на подоконнике, ты не знал, и не узнал никогда. Только после этого стояния у тебя две недели болели икры.
В этот день умер великий русский композитор Сергей Прокофьев. Никто не знал об этом: некролога так и не было.
В этот день напротив Восточной трибуны стадиона "Динамо" играли в хоккей команды ВВС и "Динамо". На матче присутствовало три тысячи человек.
Ты догадался много позже: в тот день важно было не то, что умер Сталин, а то, что ты жив.
Трамвай переехал плотину, позвякивая, влез на некрутую горку и под крик кондукторши: "Тимирязевская академия!" остановился.
Вставать с пригретого деревянного трамвайного сиденья не хотелось, но он встал, и ненужно цепляясь за брезентовые петли держалки ― баловался, прошел к выходу. Он стоял на булыжной мостовой, а двухвагонный трамвай, уютно отбрасывающий на черное ничто отсветы домашних окон, уходил. И ушел.
Отрешившись от яркости трамвайного существования, он увидел тусклые огни фонарей на деревянных столбах. Слева было грязно-желтое здание Института механизации и электрификации сельского хозяйства, справа щегольской ансамбль академии. Места эти он знал. Миновав академию и прошагав недолго вдоль забора, отделявшего дорогу от леса, он дошел до разрыва в заборе и свернул направо. Сначала были двухэтажные бревенчатые весело построенные дома с разноцветными абажурами в узорчатых окошках, потом не было ничего, кроме просеки в лесу.
А в лесу была зима, про которую уже стали забывать в городе. Темно, хоть глаз выколи. Но он знал путь ― быстро шел по замерзшей к ночи дорожке, а потом и по центральной аллее. У столба, обозначавшего двадцать четвертый участок, он остановился и осмотрелся.
Первобытная тишина безлюдья. И не верилось, что лыжно-пешеходная самодельная тропка, криво пробитая направо, ― дело лыжников и пешеходов.
Он ступил на тропу и замедлил шаг, ожидая увидеть то, что хотел увидеть.
Тело лежало поперек тропы, ничком, лицом книзу. Тело мертвого человека. Труп. Труп закоченел уже, и он ногой легко перевернул его. Он наклонился и зажег спичку.
В оранжевом колеблющемся свете увидел стылые открытые глаза и дырки во лбу. От этой же спички он и прикурил. Он стоял над трупом и курил сигарету "Дукат". Когда ярко-красный уголек дополз до пальцев, он бросил окурок и послушал, как этот уголек еле-еле шипел в снегу. Сказал негромко, отчетливо, хорошим баритоном:
― Вот тебе и конец, скотина.
Перешагнул через труп и продолжил свой путь по самодельной тропе. Он выбрался из леса через рельсы. Большим Коптевским переулком дошел до Красноармейской, свернул направо, к Малокоптевскому, добрался до покоя из трех домов: дом два "а", дом два "б" и дом два "в". Он заглянул в дверь котельной. Истопник-татарин шуровал в большом огне длиннющей кочергой: видимо, только-только засыпал уголь.
Он знал, что истопник, пошуровав, закроет топку и пойдет в дом два "в" пить чай.
Татарин закрыл топку и пошел в дом два "в" пить чай.
Подождав немного, он проник в котельную, открыл топку и долго смотрел на бушевавший огонь. Затем снял галоши с аккуратных своих скороходовских ботинок и кинул их в пламя. Галоши медленно занялись и быстро сгорели химическим синим пламенем. Глянул на часы. Было полпервого. Он закрыл топку, покинул котельную, покинул Малокоптевский, покинул Инвалидную улицу и на станции "Аэропорт" спустился в метро. Обыкновенный молодой человек дождался поезда, вошел в пустынный по позднему делу вагон, сел на кожаное сиденье, устроился поудобнее. К "Динамо" он уже согрелся, а к "Маяковской" задремал.