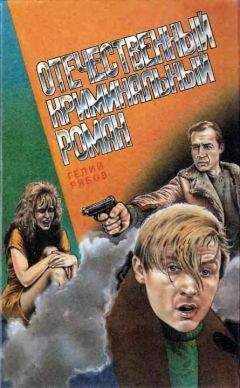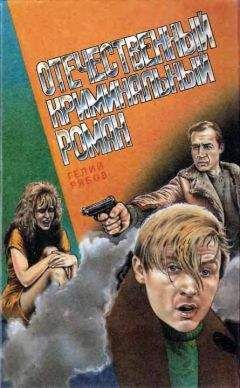Надо было что-то делать. «Что?» — Глебов посмотрел на Лену. «Отнесем вещи к маме». — «С ума сошла! Я не преступник». — «Когда все отберут — будет поздно. Про „любимую жену“ забыл?»
Это был довод. Глебов никогда не забывал про «любимую жену», Виолетту Васильеву, но это была особая история…
Жизнь Глебова сложилась не лучшим образом. Отец вернулся с фронта в 43-м, получил кафедру в военной академии и через два месяца, на командирских занятиях по вождению танка, попал под гусеницу и погиб. Мать пыталась определить Глебова в суворовское, но — не взяли, слишком много было желающих, да и отец Глебова погиб все же не на фронте. После школы поступил в юридический институт и на втором курсе решил во, что бы то ни стало жениться на любимой девушке: она жила в Ленинграде — пляжное знакомство после окончания 10-го класса. На Ноябрьские праздники Глебов вместе с двоюродным братом, тоже студентом, на пригородных и местных поездах, когда в тамбуре, а когда и на подножке (шел снег, морозило, Глебов не мог поехать к любимой в рваном пальто и уговорил мать купить на последние гроши шикарный осенний плащ, очень модный, с поясом), дрожал от холода двое суток, преодолевая 700 километров Октябрьской железной дороги, и нежданно-негаданно заявился на улицу Рылеева. Любимая встретила холодно, спешила на день рождения подруги, случилась ссора и размолвка, увы — навсегда. Через два года, когда Глебов окончил институт и собирался ехать на работу в глухую алтайскую тайгу, бывшая любимая вышла замуж за двоюродного брата, тот больше устраивал будущих родственников — не собирался покидать родной город, да и профессию имел социально-нейтральную: был инженером по автомобильным карбюраторам. Глебов тяжело пережил это: приехав к месту назначения, от отчаяния сделал предложение сослуживице, «уралочке», как ее называл секретарь райкома комсомола, и вскоре женился. Свадьбу играли три дня и три ночи, Глебов проснулся на четвертые сутки с дикой головной болью и ощущением непоправимой беды. Когда вышел на работу, адвокатесса Катя — из музыкальной ленинградской семьи с труднопроизносимой фамилией — тоскливо заглянула Глебову в глаза: «Я ее спрашиваю: ты его — тебя то есть — любишь? А она отвечает: моет, да, а моет — нет. Ты объясни мне, кого она моет?» — «Это уральская присказка». Катя поджала губы: «На интеллигентной девочке надо было жениться».
Через неделю, на комсомольском собрании, которое проводили в милиции, Глебов не согласился с мнением супруги, за что и получил по физиономии, принародно. Потом всякое бывало, и так часто, что и упомнить было невозможно; единственное наблюдение, которое Глебов вывел из мелких и крупных семейных потрясений, это то, что у него, оказывается, отсутствует основное качество семьянина: стойкое умение ни на что не реагировать. Он реагировал на все, любая мелочь, казалось ему, не только унижает его человеческое достоинство, но и попирает основы справедливости. Он бросался в бой по любому поводу. Много позже, когда возобновились родственные отношения с братом, тот заметил философски: «Так ведь и сердце надорвать недолго». Фраза эта вроде бы и забылась, но где-то в подсознании все же засела, с тех пор Глебов часто возвращался мысленно в свое прошлое и словно наяву слышал резкий и высокий голос супруги на том знаменитом собрании и почти физически ощущал каждый раз мощный удар в лицо…
Странная была женщина Виолетта Васильевна. То вдруг произносила голосом тихим и нежным: «Ты ведь не знаешь, Глебов, как я тебя люблю». А то норовила вцепиться в лицо — ногти у нее были длинные, крашенные темно-красным лаком, когда она злилась, ее и без того тонкие губы вдруг исчезали и оставался только карандашный темно-коричневый контур. Однажды Глебову позвонил приятель и, тяжело дыша в трубку, сообщил: «Твоя сейчас на службе, и не одна, понял?» — «Не понял. А что?» — «Ты, Глебов, Дурак или так?» И Глебов помчался на работу супруги — выяснять. Двери были закрыты, и он два часа стоял на другой стороне улицы, вглядываясь в темные окна конторы. Когда уже собрался уходить, створка дверей поползла и пропустила сначала Виолетту, а потом лысого бугая с квадратными плечами, и стадо тоскливо, мерзко и ясно, что примчался к этим дверям вотще. С этого вечера отчуждение все нарастало и нарастало — еще десять лет. Даже развестись успели и квартиру обменять. Но жили по-прежнему вместе и в общем — мирно, только мир этот был призрачный, зыбкий, пронизанный сполохами ненависти и злобы. Выросла дочь — подозрительным недругом, с влиянием Виолетты невозможно было бороться, она разрешала дочери все, что запрещал Глебов, и запрещала то, что он считал полезным. Валентина и мужа себе выбрала, как рекомендовала молодежная газета, — по интересу. В чем он заключался, Глебов так и не узнал, он всегда был сам по себе и однажды, защищая пошатнувшийся мир, придумал себе занятие, которое глухой стеной отделило от семейства: начал коллекционировать живопись старых мастеров, старинный фарфор, стекло и прочее — гонорары позволяли, фильмы выходили один за другим, книги тоже, правда, все это было малозначимым по мысли и проблематике, но Глебов себя успокаивал: такое время, другой литературы не требуется, других фильмов — тем более, потому что их смотрят миллионы, которым завтра с утра — на работу.
Семейная жизнь закончилась в одночасье. Однажды зимой Глебов по обыкновению повез Виолетту на премьеру в Дом кино. Давали ленту, авторами которой были угасающие люди, когда-то сделавшие нашумевший фильм по рассказу Достоевского. Фильм этот не выпустили на экран. Эта акция поубавила смелости творческому тандему, и теперь Глебов с Виолеттой должны были увидеть нечто из восточной жизни: политика пополам с любовью и ретроспекциями в жизнь вождя прошлых времен. Когда пошли титры второй серии, изнемогший Глебов наклонился к уху супруги и негромко сказал, что сил у него, больше нет и поэтому он пойдет в коридор или в холл — уж куда ноги донесут, и тогда Виолетта встала и внятно произнесла на весь зал: «Уходишь? Боишься талантливых произведений? Оно и понятно, ты ведь — оглушительный бездарь!» И села, это еще Глебов успел заметить. Очнулся дома, на диване, как на него попал — не помнил, как добрался до дома — тоже. Вошла Виолетта, зыркнула ненавистным взглядом: «Убирайся! — Глебов промолчал, и она добавила: — Дрянь такая!..»
На другой день он пошел в издательство, там на стадии редакционной подготовки лежала его новая повесть.
Писатель он тогда был даже не начинающий, а так… За огромным магазином, на другой стороне узенькой улочки конца XIX века, по обеим сторонам подъезда, который более походил на вход в конспиративную квартиру времен гражданской войны, висели вывески. Глебов насчитал их двенадцать и считать бросил — еще оставалось. Эдакая учрежденческая Воронья слободка, издательство помещалось здесь. По мрачной исшарканной лестнице поднялся он на последний этаж — лифт не работал — и сразу попал На штурм Зимнего: бежали матросы, строчил из пулемета броневик. Министрам-капиталистам оставалось жить совсем недолго, — видимо, этот фотомонтаж сильно помогал издательскому делу. По длинному коридору добрался до Нужной комнаты; слева за двухтумбовым столом сидела молодая женщина. «Я Глебов». — «Да-да, — садитесь». У нее были широко расставленные глаза (как у лошади — отметил он про себя), она что-то говорила, наверное — о рукописи, он кивал, соглашаясь, но смысла не понимал. Когда она сказала: «Идемте, я представлю вас главному и директору», — послушно зашагал по коридору. Главный был ширококостный, с глазами слегка навыкате. «Все улучшаешься?» — «Ага», — кивнула она. «Хорошеет, — повернулся главный к Глебову, — я, собственно, что? Рукопись пойдет, только уберите про расстрел детей, я, знаете ли, детей люблю — независимо от социального происхождения, ну и потом — они там против, а мы с ними ссориться не можем, организация с организацией, понимаете?» Глебов плохо понимал, он не отводил глаз от ее лица, это лицо снилось ему всю предыдущую жизнь. Вышли, на другой стороне обитал директор, полненький, с брюшком и редеющими, тщательно уложенными волосами. Поднялся из-за стола, улыбнулся, как показалось Глебову, несколько преувеличенно: «Что, Лена, новый автор? — повернулся к Глебову: — Какую женщину вам даем… — Снова улыбнулся: — Там у вас телеграмма Врангеля, зачем она?» «Но, Виталий Сергеевич, — запротестовал Глебов, — это же очень важно». «Совсем не важно, — перебил директор, — не надо этого. Ну вот и прекрасно, заходите». Он протянул руку, Глебов пожал, проклиная себя за конформизм, дверь закрылась. «Огорчились? — Лена ободряюще улыбнулась: — Все оставим, он больше не спросит. Вы в жостовских подносах понимаете?» — «Понимаю». — «Помогите купить». — «Конечно». Через час Глебов проводил ее до метро и, подумав с тоской о том, что достаются же такие кому-то, ушел.
Так начался его роман с Леной — бурный, все преодолевающий — откуда только силы брались и страх куда девался, а ведь было все: и нож, которым пыталась ткнуть Виолетта, и уксусная эссенция, которую она плеснула ему в лицо, и муж Лены, красивый молодой человек гвардейского роста, который в знак протеста сделал стойку на перилах балкона. В общем — все развивалось совершенно нормально и кончилось естественно: осенью Глебов и Лена расписались, женились, зарегистрировали брак — суть не в названии, Глебов был счастлив. Через двадцать пять лет после рухнувшей первой любви он обрел вторую и последнюю — могло ли быть иначе?