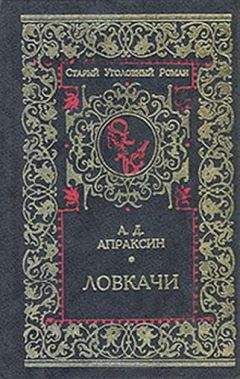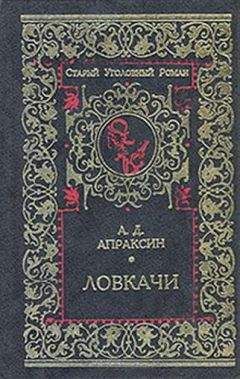— Но откуда ты взял!
— Что? Что такое? То, что ты можешь в данную минуту уплатить мне старый долг? Это тебя интересует? Изволь. Ты купил вчера у часовщика на углу золотые гладкие часы. Я видел тебя, когда ты выходил от него. Из любопытства я зашел и заговорил о тебе, сказав, что знаю тебя, да от слова к другому и выведал, что мне было нужно. Часовщик мне наивно разболтал, что при тебе денег много, одних сотенных тысячи на три. Вот и причина моего раннего визита.
— Часовщик мог и напутать.
— Цели никакой нет. Да, впрочем, чего же проще? Потрудись показать свой бумажник, вон он, я вижу, из-за драпировки у тебя на кровати из-под подушки торчит.
— Ты, кажется, уж и на обыск готов? — спросил как бы шутя Хмуров, но сам от мысли этой разом покраснел.
— Нет, — ответил Пузырев и снова прислонился к спинке своего кресла. — Я прежде всего враг скандалов, а обыск, в особенности насильственный, мог бы вызвать с твоей стороны сопротивление и шум. Но я предпочитаю избрать иную меру: я не уйду из этой комнаты, пока не получу от тебя полного удовлетворения. Если нужно будет, я останусь здесь ночевать и даже отдам свой вид в прописку…
— Ну, хочешь сто рублей?
— Почему ж и нет! Давай сто рублей, останется за тобою девятьсот.
Недоверчиво оглядываясь, Хмуров пошел за драпировку, пошуршал там чем-то и вернулся с развернутым радужным кредитным билетом в руке. Протягивая его Пузыреву, он сказал:
— Себя граблю, чтобы только тебе помочь. Вот бери.
— Спасибо.
Он спрятал бумажку в карман, предварительно аккуратно сложив ее вчетверо, и потом, принимая снова свою прежнюю позу, полную спокойствия, сказал:
— Только ты, Иван Александрович, себе положительно лишний труд сам составляешь.
— Почему это?
— А потому что вместо одного раза, таким-то путем, придется ведь целых десять за драпировку удаляться.
Приятели смотрели друг на друга в упор, прямо в глаза. Оба они точно измеряли силы другого, и нехорошие искорки сверкали в их зрачках.
— Ты шутишь? — спросил наконец Хмуров. — Я дал тебе все, что мог.
— И не думаю шутить…
— Так на же, смотри, коли так! — вспылил снова Иван Александрович и, кинувшись за драпировку, принес оттуда весь свой объемистый бумажник.
— На же, ищи! — кричал он в бешенстве, развертывая его перед глазами гостя, так что оттуда из разных его отделений насыпались и деньги, мелкими кредитками, и карточки, и письма.
В удивлении смотрел на эту сцену Пузырев и только повторял:
— Успокойся, не кричи, могут в коридоре или рядом услышать, нехорошо. Да успокойся же, довольно. Я тебе верю.
— Вот то-то же и есть, теперь веришь, — говорил вслед за ним Хмуров, волнуясь. — А когда говорят тебе, так какого-то часовщика приплетать стал. Я действительно несколько несчастных сотенных так скомкал, чтобы он их за тысячи принял; но ведь я везде расплатился: здесь отдал долг, да еще вперед внес, за лошадей заплатил, туда-сюда, и вот осталось сто восемьдесят рублей. Тебе сто, а себе мелочь одну оставляю…
— Жаль, — сказал Пузырев, вставая, — а ведь я к тебе по хорошему делу пришел: сразу куш здоровый можно зачерпнуть, тысяч эдак по тридцати на брата…
Выражение лица Хмурова снова изменилось. Он спросил:
— Ты не балаганишь?
— Какой тут балаган! Дело блестящее и не подлежащее никакому сомнению. Но, конечно, прежде всего на него деньги потребуются, а раз у тебя их нет, и говорить не стоит.
Хмуров соображал. Словно спохватившись, взял он приятеля за руку и, притягивая снова к покинутому креслу, сказал:
— Чудак же ты, право! Ну, допустим, сейчас у меня денег нет, но я попал теперь на такую линию, что могу их достать. Садись и расскажи, в чем суть? У тебя всегда бывали блестящие идеи.
— Спасибо за комплимент. Он приходится мне тем более кстати, что доказывает, какое ты доверие питаешь к моим умственным способностям. И чтобы тебе доказать, насколько я и в самом деле смышлен, я скажу тебе вот что: дело, мною придуманное, во всех отношениях непогрешимо; через месяц, много два, мы с тобою положим чистоганчиком по тридцати, а может быть, и более тысяч в карман и укатим за границу; но нужно для этого именно около двух тысяч на расходы, то есть тебе тысячу и мне столько же. Раздобудься деньгами, и тогда прошу покорно на совет, — но одно еще помни: в моем предприятии каждый день дорог.
Он замолчал и пытливо смотрел на Хмурова, выражение глаз которого ясно говорило, что и ему хочется проникнуть в тайники мысли товарища.
— Но какого же рода твое дело и в чем гарантии на успех?
— Сперва денежки, то есть главным образом сперва мои деньги. Довольно того, что я раз тебе на слово поверил и слова своего ты тогда не сдержал. Снова в обиду я тебе не дамся. Помни, что дело мое так же верно, как то, что мы с тобою уже не впервые видимся. Если через три дня, то есть в четверг утром, ты мне не вернешь остальных девятисот рублей, то я могу тебе кое-где попортить, во-первых, а во-вторых, я найду себе другого компаньона.
С этими словами Пузырев встал, протянул на прощанье товарищу руку и вышел. Хмуров хотел было задержать его, но почему-то раздумал. Ему казалось, что Пузырев только хвастал.
Он вернулся к себе за перегородку и, достав из-под тюфяка, у изголовья постели, почтенных размеров пачку сторублевых, любовался ею и с наслаждением вслушивался в шелест этих радужных листов.
Пузырев же решил, еще до ухода своего, учредить за приятелем строжайший надзор.
Илья Максимович Пузырев, удаляясь, бросил на стол лоскуток бумаги с обозначением своего адреса. Он прошел мимо швейцара с тем же гордым видом полнейшего сознания своей независимости, с каковым не более часу до этого сюда вошел. Но, невзирая на обладание сторублевым кредитным билетом, он не взял извозчика, а направился домой пешком, ворча про себя свои соображения относительно только что сделанного визита.
«Бьюсь об заклад, что врет! — думал он относительно клятв Хмурова, будто бы он теперь сам остается с восемьюдесятью рублями. — Но если врет, то погоди же. Во всяком случае, от моего бдительного ока ты не скроешься. Нет, не на того напал. Шалишь, мальчик! Еще на свет тот не родился, кому бы удалось безнаказанно провести Ильюшу Пузырева».
Он шагал мерно, спокойно, точно разгуливая, и вскоре свернул в один из ближайших переулков.
Он вошел в калитку и очутился на обширном дворе, среди нескольких отдельных деревянных построек. То были все флигеля-особнячки с мезонинчиками и отдельными садиками. Только вид их казался захудалым, предвещая скорое разрушение, если только домовладелец не позаботится о многостороннем и необходимом ремонте.
Пузырев прошел в самую глубь двора и поднялся на вышку последнего, наиболее отдаленного флигелька. Там он сперва постучался в дверь, снаружи обитую рогожею, и не позвонил по простой причине: звонка тут совсем и не было.
Вышка была разгорожена на целых три комнаты. Но Боже, что за комнаты! С низкими потолками, придавливающими их с тем большею угрозою, что от ветхости они совсем покосились на сторону, и оставалось только удивляться, что в переулке, прилегающем к большой центральной улице Москвы, гордящейся своим громким прозвищем «Белокаменной», могли еще встречаться в наши просвещенные времена подобные лачуги.
Да, но Пузырев уже ничему не удивлялся, а, видимо, чувствовал себя здесь своим человеком.
Какой-то старой женщине, возившейся около почернелой русской печки в первой каморке, при самом входе, он только кивнул в знак приветствия и прошел далее. В следующей клетушке, за ситцевыми полинялыми занавесками, одиноко стояла старая деревянная кровать. Наконец, в последней комнатке, куда вошел Пузырев, их было две: одна пустая, а в другой лежал человек, исхудалый, изнуренный и, без сомнения, в последней степени чахотки.
Большие черные глаза его, напоминавшие угольки, вспыхнули в глубине темных орбит, когда Пузырев вошел, и устремились на него с выражением огромного нетерпения, можно было бы даже подумать — боязливой надежды.
— Опять волнуетесь, — сказал ему Пузырев, прочтя это выражение при первом, беглом взгляде на него. — Успокойтесь, Григорий Павлович, первый шаг к успеху сделан, и не пройдет десяти дней, как обещание мое будет исполнено в точности.
— Неужели? — слабо проговорил больной, и, следя за направлением шагов Пузырева, подошедшего к окошку, чтобы сесть на свое привычное место, он сделал неимоверное усилие и обернулся всем телом в ту сторону.
Пузырев сел, достал папиросу, закурил и тогда уж, раза два жадно затянувшись, заговорил;
— А вы лежите смирно да слушайте, Григорий Павлович. То лицо, о котором я вам рассказывал, Иван Александрович Хмуров, на которого я для вас возлагал такие большие надежды, теперь наконец приехал, и я сейчас виделся с ним.