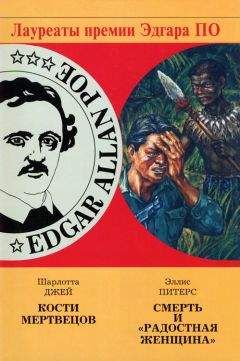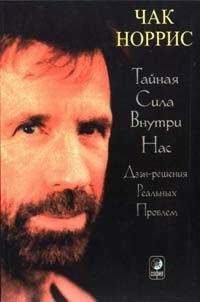— О Господи! — в изнеможении молвила она. — Я негодяйка, потому что втягиваю тебя в это дело.
— Нет, Китти, ты правильно поступила, ей-богу, правильно. Я тебе докажу. Больше ничего не было? Ты уверена, что это всё? Ты его толкнула, он упал с лестницы и потерял сознание?
— Разве этого недостаточно? Ведь его нашли уже мертвым.
— Да, мертвым. Но ты его не убивала. — Он знал, что сейчас сделает, и это было ужасно. Это почти перевешивало ощущение радости от сознания ее невиновности, от того, что он может протянуть Китти ее собственный образ и показать, насколько он непорочен. Никогда прежде, даже в далеком шумном детстве, Доминик не болтал о том, что слышал от отца, но теперь он решился, и пути назад уже не было.
— Китти, послушай. В газетах писали, что Армиджер умер от травмы головы. Больше ничего. И вовсе он не упал с лестницы. Я знаю об этом от отца. Не говори никому, что я тебе сообщил. Когда Армиджер лежал без чувств, кто-то взял бутылку шампанского и умышленно размозжил ему голову, нанеся девять ударов. Эти удары прекратились, лишь когда разбилась бутылка. И это была не ты, верно?
Китти уставилась на него. В глазах ее ужас боролся с недоверием.
— Нет… нет, не я, я не могла, не могла… — прошептала она.
— Я знаю, что не могла. Конечно, ты не могла. Но кто-то это сделал. А ты, Китти, не убивала его. Ты ничего такого не делала, только оттолкнула его и случайно оглушила. Потом кто-то вошел и забил его до смерти. Вот видишь, тебе вовсе не обязательно что-то им рассказывать. Ты ведь не будешь, верно? Эта история с перчатками — ерунда, Лесли они не тронут, вот увидишь. Повремени хотя бы, пока все выяснится.
Она не слышала и половины его речи. Будто впотьмах, Китти ощупью тянулась за тонкой ниточкой, предложенной им и ведущей назад, к свободе. Заметив, что ее лицо окрасилось теплым румянцем, а глаза загорелись надеждой, Доминик преисполнился неведомым ему дотоле горделивым смирением.
— Ты серьезно? Ты не утешаешь меня волшебными сказками? Нет, ты бы не мог! О, Доминик, неужели я и впрямь не убийца? Ты не представляешь, как мне было скверно вчера утром, когда я узнала, что он умер.
— Конечно, ты не убийца. Я рассказал тебе правду. Но никому ни слова, ладно?
— Ну нет, — заспорила она, — я должна рассказать. Доминик, что бы я без тебя делала? Понимаешь, раз я не убийца, мне теперь все нипочем, но ради Лесли я обязана им рассказать. Я могу доказать им, что Армиджер был жив после ухода сына. Я могу доказать, что Лесли его не убивал. — Китти опечалилась, увидев на лице Доминика негодование, но она уже твердо знала, что должна делать. — Я и так запуталась и не пойду на попятный. Довольно с меня. Это сокрытие фактов. А так я буду знать, что Лесли не пострадает и его оставят в покое.
— Но тебе нельзя этого делать, — возразил Доминик, хватая ее за руку и усаживая на скамейку. — Ты можешь доказать, что Лесли его не убивал только в то время, когда ты сама была там. Но он вполне мог вернуться. Ведь кто-то туда приходил. И неужели не ясно, что, если ты расскажешь им все это, они подумают, что ты недоговариваешь, что задержалась там и прикончила его.
— Не понимаю, почему ты так говоришь, — глаза Китти округлились. — Ты же мне веришь. Почему они не поверят?
— Да потому, что им не положено никому верить. Да и доказательств у тебя никаких.
— Никаких, — согласилась она, чуть побледнев. — Но теперь я не могу отступить, я этого не выдержу. Ты не должен больше обо мне беспокоиться. Ты уже сделал для меня все, что мог.
Не скажи она этих слов, не коснись легонько кончиками пальцев его разгоряченного лица, он, возможно, нашел бы в себе силы продолжить спор и даже разубедил бы Китти. Но это прикосновение лишило его дара речи. Онемев, окаменев и затаив дыхание, он смотрел, как она уходит. А когда Китти оглянулась и скороговоркой произнесла: «Не бойся, я тебя не выдам», Доминик едва не расплакался от злости и отчаяния, потому что никак не мог набраться решимости крикнуть ей: да не о себе я пекусь, плевать мне на себя, я за тебя переживаю, а ты совершаешь чудовищную ошибку, и это невыносимо, потому что я люблю тебя.
Она ушла. Темный дверной проем поглотил ее, и теперь уже ничего нельзя было сделать. Доминик снова сел, сжавшись в комочек на краешке скамейки и мучительно борясь с собой, пока в голове снова не прояснилось и дело не предстало перед ним в самом ужасающем свете, словно сознание, подобно самоуверенному фокуснику, одним движением выхватило из колоды туза. Он лишил Китти возможности оправдаться, сославшись на неведение. Именно он, и никто другой. Если она придет туда и расскажет им то же, что рассказала ему, они сразу же увидят зияющую брешь, непременно увидят, как увидел он сам. Они спросят ее об орудии убийства и о ранах, а она сделает вид, будто не понимает, о чем речь. Ее недоумение будет выглядеть безупречно правдиво. А еще хуже то, что она так и не скажет им о его предательстве, не объяснит, откуда у нее эти сведения, чтобы не навлекать беду на него, Доминика. Стоит ей чуть обмолвиться, и они тут же заподозрят, что она знает, как произошло убийство. А уж тогда-то ничто не помешает им считать убийцей ее саму. Ведь о подробностях преступления известно лишь горстке людей, да еще убийце. Что же я наделал, ужаснулся Доминик. Ведь я вынес ей приговор.
Только что испытанное непривычное и пьянящее ощущение возмужания таяло. Доминику хотелось пойти в участок следом за Китти, признаться в своей ошибке, но ему не хватало смелости, и сознание этого обстоятельства вызывало дурноту. Разумеется, боялся он не за себя. Под угрозой оказалась карьера его отца. Работники следственных органов не должны обсуждать свои служебные дела с домочадцами.
Но у Фелзов исключительно дружная семья, и преданность всех ее членов друг другу не подлежит сомнению. В ней нет места условностям, потому что Фелзы безгранично верят друг другу. И это правильно, но лишь до тех пор, пока солидарность нерушима. А он ее нарушил. И теперь его отец скомпрометирован. Придется признаваться. Только так можно хоть немного исправить причиненное Китти зло. Но признаваться надо отцу, в разговоре с глазу на глаз, и никак иначе. Может быть, Китти еще удастся оправдаться, и тогда признаний не потребуется. Что, если, скажем, отец захочет уйти в отставку или…
Как же ему хотелось, чтобы Джордж поскорее вышел и отвез его домой. Тогда можно было бы попытаться выпутаться из этого ужасного положения. Но когда по кафелю вестибюля застучали каблуки и Доминик резко повернулся, чтобы посмотреть, кто вышел, оказалось, что это Лесли Армиджер. Он почти бежал и явно испытывал облегчение, будто заново родился. Старые перчатки, выброшенные им после покраски садового сарайчика, оказывается, впитали множество всевозможных жидкостей, включая креозот, битумную смолу, масляные краски и лаки, но крови на них не было. Едва увидев их, Лесли с облегчением рассмеялся. А он-то, дурак, навоображал себе черт-те что, вконец извелся. И все — из-за каких-то древних безобидных перчаток, выброшенных на помойку. По сути дела, его положение после этой бури в стакане воды не изменилось, но теперь ему верили гораздо охотнее. В итоге Лесли и сам почувствовал себя куда лучше. И это чувство освобождения, пожалуй, с лихвой возместило ему все пережитые страхи.
Сержанта-детектива Фелза вызвали с допроса, потому что к нему пришел посетитель, но Лесли не знал, кто он и связан ли визит с расследованием убийства его отца. Не знал и знать не хотел. Он держал путь домой, к Джин, был на свободе и, более того, почти полностью реабилитирован. Лесли поклялся себе, что больше никогда не позволит страху так легко овладеть им.
Спустя десять минут Джордж, наконец, вышел поговорить с сыном, да и то лишь затем, чтобы сообщить, что ему все-таки придется задержаться, возможно, на несколько часов, и что Дому лучше отправиться домой на автобусе. Стало быть, здесь ему не очистить душу признанием, это очевидно. Не успел он разомкнуть одеревеневшие губы и вымолвить хоть слово, как отец скрылся за дверью.
Чувствуя себя потерянным, Доминик поднялся и пошел домой. Больше ничего и не оставалось. На вопросы Банти он отвечал односложно, с унылым видом сел пить чай, безучастно проглотил его и уединился в своем уголке с учебниками, которых даже не замечал, потому что терзался тревогой и был как в тумане. Мать заподозрила, что у него начинается простуда, но Доминик с таким раздражением отверг ее попытку поставить ему градусник, что диагноз пришлось пересмотреть. У него что-то с головой, решила мать. И ему нужна не я, ему нужен отец. Интересно, что у них за дела?
Джордж вернулся только без двадцати десять, усталый и телом, и душой; в таком настроении к нему лучше было не лезть с расспросами. Банти покормила его и оставила в покое, прекрасно понимая, что в голове мужа бродят тревожные мысли и вскоре он поделится ими с нею. Наконец Джордж устало откинулся на спинку кресла и без малейшей радости в голосе проговорил: