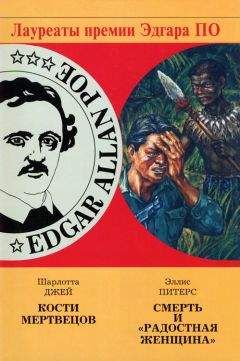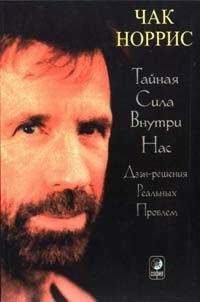— Они могли ошибиться… — выдавил Доминик.
— Я не говорил, что она это отрицала. Я сказал, что она не пожелала дать какое-либо объяснение. — Голос Джорджа звучал все мягче и мягче. — И это еще не все, Дом. Мы принесли одежду, в которой Китти была в тот вечер. Я знаю, на ней было черное шелковое платье с длинной юбкой. Еще на ней была индийская шаль, такая штука из газа, расшитая золотом и переливающаяся. Вот что странно: уголок шарфа оторван, и мы до сих пор не нашли этот лоскут ткани. На подоле юбки с левой стороны — несколько пятен, они почти невидимы, но тесты подтверждают, что это кровь той же группы, что и у Армиджера. В пивной я не заметил, в каких туфлях она была, но мы нашли их по бурому пятнышку на носке левой туфельки. Тоже кровь, Дом. Той же группы. Мы проверили. Это кровь Армиджера, а не Китти.
Доминик смежил веки, но все равно видел мысленным взором серебристые сандалии, блестевшие в руках Китти в яхт-клубе. Возможно, в пивной она была в другой обуви, но именно эти сандалии стояли сейчас перед глазами мальчика.
— Извини, старина, — сказал Джордж. — Это еще не конец света, да и не конец дела тоже. Хотя виды на будущее отнюдь не радужные. Справедливости ради я был обязан сказать тебе об этом. Не принимай слишком близко к сердцу.
Он положил руку на плечо сына и ласково потер его жесткую щеку костяшками пальцев.
Доминик резко поднялся и, как слепой, направился к двери. Чуть не сбив с ног Банти, он бегом бросился к лестнице. Банти проводила его взглядом, затем посмотрела на Джорджа и замерла в нерешительности, не зная, бежать ли ей за сыном. Джордж на всякий случай сказал ей «Нет!» и покачал головой.
— Оставь его в покое, — посоветовал он. — Все будет хорошо, только не трогай его.
Наутро, когда пришла пора спускаться к завтраку, он уже все обдумал и выработал твердую позицию, от которой не собирался отступать ни на шаг. О его решимости свидетельствовали стиснутые зубы и бледность черт, которые, похоже, за одну ночь обрели зрелость. Судя по припухшим векам и синим теням под глазами, в сумеречные утренние часы он предавался не грезам, а мучительным размышлениям. К завтраку он вышел спокойный и собранный, тщательно приветствовал родителей, давая понять, что от вчерашней тучи не осталось и следа, а за столом был как никогда внимателен к матери. Она с серьезным видом подыгрывала ему. Двое мужчин в доме — это становилось забавным. К Джорджу у Банти не было серьезных претензий, но ему не повредит, решила она, если в доме появится соперник, да и ей будет повеселее. Жаль только, что Доминик идет к зрелости через такие тернии. Лучше бы это было как-нибудь иначе! Банти и Джордж проснулись чуть свет и стали обсуждать дела сына, всеми силами стараясь заглушить тревожные нотки в голосах. А теперь они с беспокойством наблюдали за ним, едва ли не с болью ощущая, как он мучительно подбирает слова.
— Насчет вчерашнего вечера, пап, — заговорил, наконец, Доминик, сдерживая дрожь в голосе и стараясь, чтобы речь его звучала непринужденно. — Я обдумал все, что ты мне сказал, и… и спасибо за откровенность. Но в одном я совершенно уверен. Для меня это — доказательство, хотя для тебя, возможно, и нет. Когда Китти говорила со мной, она не знала, как был убит мистер Армиджер. Поэтому она не могла быть убийцей. Я не жду, что ты поверишь в это, ведь ты не видел и не слышал ее тогда. А я видел и слышал, а потому верю. А все другие улики не доказывают ее вины. Их можно объяснить как-то еще.
— Мы еще будем над этим работать, — сказал Джордж. — Постараемся снять все неясности. Я ведь сказал тебе: дело еще не закрыто.
— Не закрыто. Но ведь вы будете заделывать прорехи с одной-единственной мыслью в голове. Логическое завершение этого вашего снятия неясностей — суд и приговор, разве не так?
Джордж, тронутый искренней печалью сына и восхищенный его умением по наитию найти нужные слова, резко спросил:
— Черт возьми, неужели ты думаешь, что мне это нравится больше, чем тебе?
Окруженные синими тенями глаза метнули на него испуганный взгляд и тут же снова уставились на стол.
— Наверное, нет, — осторожно ответил Доминик. Судя по интонации, ему хотелось бы подольше поразмышлять над тем, что означает вопрос отца, но гораздо более неотложные дела требовали его внимания. — Только я отталкиваюсь от того, что мне известно, и поэтому дело видится мне в ином свете. Возможно, идя каким-то другим путем, я сумел бы выяснить то, что не под силу выяснить вам. Как ни крути, а попробовать стоит, ты и сам это видишь.
— Полагаю, тебе и впрямь этого хочется, — признал Джордж.
— И ты не возражаешь?
— Нет, при условии, что ты не будешь нам мешать. Но если ты наткнешься на что-то существенное, не забывай, что твой долг — известить об этом полицию.
— Полагаю, это не означает, что и ты должен все мне рассказывать!
На этот раз голос Доминика прозвучал заносчиво, и Джордж решил, что надо бы как-то повлиять на сына, иначе он вырастет настоящим эгоистом. Пока дело явно к тому и шло.
— Нет, — твердо сказал он. — И после вчерашнего ты не должен этому удивляться.
— Ладно, — согласился Доминик, разом помолодев на несколько лет и почувствовав жгучий стыд. — Извини меня.
Он с решительным видом встал из-за стола и вышел, ни словом не обмолвившись о своих намерениях.
Была суббота. Что ж, по крайней мере, не придется корпеть над книгами, не видя их, и грезить на уроках. А значит, не придется и злиться из-за всего этого. Банти проводила Доминика в сад, и он принялся подкачивать шины своего велосипеда. Не задавая никаких вопросов, она сказала «Счастливо, котенок!» и поцеловала его. Она полагала, что еще может сделать это, поскольку делала так всегда, отправляя сына на какое-нибудь страшное испытание вроде экзамена одиннадцать плюс или первого дня школьных занятий. Доминик уважал давно заведенный ритуал и, исполняя свой долг, поднял голову, чтобы подставить матери губы с той же заученной непринужденностью, с какой делал это в пятилетием возрасте. Но вместо того, чтобы быстро вытереть губы тыльной стороной ладони и снова усердно склониться над насосом, он выпрямился и посмотрел на мать полными тревоги глазами, принадлежавшими то ли мужчине, то ли мальчику.
— Спасибо, мама, — с грубоватой нежностью ответил он, ибо этого требовал обряд.
Она сунула ему в карман десять шиллингов:
— Аванс на расходы.
На миг Доминику показалось, что мать относится к нему недостаточно серьезно.
— Я не шучу, — проговорил он, хмуро взглянув на нее.
— Я тоже не шучу, — заверила его Банти. — Девушку эту я не знаю, но ты ее знаешь и, уж коли ты говоришь, что она этого не делала, я тебе верю, и меня убеждать не надо. Если я могу чем-нибудь помочь, обращайся ко мне, ладно?
— Ладно! Спасибо, мама!
Он благодарил ее не только за десять шиллингов. Поначалу Доминик подозревал, что этим подарком мать просто хочет приободрить его. И даже не за предложенную помощь и поддержку, а за понимание его чувств к Китти. Она знала, что это чувство взрослого человека, что оно неподдельно, сильно, серьезно и достойно уважения. Он испытал мгновение восторженного обожания матери, поразительных новых открытий в познании этой женщины, которые сопровождают мужчину на трудном пути к зрелости. И Банти, знавшая, когда нужно исчезнуть, поспешно удалилась в дом, чувствуя себя почти такой же юной, как и ее сын.
Однако эти вспышки теплых чувств никак не могли помочь Китти, и Доминик почувствовал еще более тяжелый груз ответственности. Оседлав свой велосипед, он поехал по проселочной дороге, которая вскоре привела его к «Веселой буфетчице». На перекрестке он съехал на поросшую травой обочину, уставился на злосчастный дом и углубился в размышления. Здесь уже почти не было зевак; в центре внимания теперь оказалось место, где, вероятнее всего, находилась Китти. О ее аресте сообщили утренние газеты и радио, и новость мигом обросла слухами, которые, подобно виноградной лозе, оплетают заборы сельских домиков и пускают глубокие корни в городах. Китти Норрис! Вы можете в это поверить?
У обочины дороги торчала новая вульгарная вывеска из ажурных чугунных прутьев. Двери пивной откроются только после похорон, разрешение на которые было дано на вчерашних слушаниях у судьи. О, как разозлился бы Армиджер, узнав, что лишился субботних и воскресных барышей, да еще из-за такого пустяка, как собственная кончина. Говорят, похороны будут в понедельник, и устройство их поручено Реймонду Шелли, а не Лесли Армиджеру. Люди, привыкшие мыслить традиционно, уже начинали лицемерно осуждать Лесли за отсутствие сыновних чувств и заявляли, что он не придет на похороны. А почему это, удивился Доминик, они считают, что он обязан там быть? Ведь он лишился отцовского расположения, и ему запретили испытывать сыновние чувства. Если он и жалеет покойного отца, это говорит лишь о его великодушии. А каковы его чувства к Китти, которая добровольно сунула голову в петлю, чтобы спасти его? Наверное, теперь он уже знает об этом. Ведь это известно всем и каждому. Проезжая мимо пригородных ферм, Доминик чувствовал, как дрожит и звенит воздух, полный сплетен. Он увидел двух женщин, стоявших по разные стороны забора и наверняка судачивших о падении Китти, щедро сдабривая выдумками голые факты.