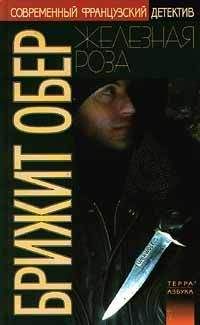Скорее, скорее домой; эта дурацкая дверь вечно сама закрывается — но что это с ней? Похоже, ее заклинило… Чертов холод — пардон, господин магнитофон, но холод, куда ни крути, все–таки чертов; откроешься ты или нет, подлая дверь? Похоже… ручка не поворачивается — они закрыли ее на собачку, эти!.. Сейчас мне придется звонить…
Оглохли они там, что ли? Нет, но как же это! Как будто специально! Но, черт возьми, эту дверь хоть высаживай — никто даже не пошевелится!
Мне холодно… Должно быть, минус десять, а я в халате, но, в конце концов… что за дела! Вот, вот, вот вам — это–то их, глухих тетерь, разбудит; сейчас я ее в щепки разнесу, эту дверь; прошу вас: придите кто–нибудь, откройте, прошу вас… Он убил их всех, а меня оставил подыхать на улице: «Сожалею, лейтенант, опять несчастный случай…» Идея: телефон — пойду–ка я к отцу Карен…
Его машины нет на месте, — наверное, опять уехал куда–то. Я уже ни рук ни ног не чую, того и гляди, свалюсь; они должны открыть, они специально затаились; вот–вот потеряю сознание, я так дрожу, что слова в горле застревают; откройте же эту дверь, черти бы вас съели!
Дневник убийцы
Холодная выдалась ночка. Похоже, под дверью скулит и скребется какое–то животное. Бедненькое — в такой–то холод, — бедное маленькое животное! Прощай, Джини.
Дневник Джини
«Вы с ума сошли, Джини, такой тарарам устраивать? (Это сказал доктор, открывая мне дверь.) Мы ничего не слышали, девочка моя; вы знаете, когда все двери закрыты…» — «Но кто закрыл на собачку?» — «Понятия не имею. Ну ладно, поздно уже, спокойной ночи!» — «Спокойной ночи». Старый негодяй! Взять бы его да убить! Прослушала запись, забавно: голос на пленке дрожит… да, забавно… можно сказать.
Пью очень горячий грог. Ну попадись мне тот фрукт, что закрыл дверь на собачку! Я наверняка подхватила грипп.
Чихаю без передышки! Знобит — боюсь, у меня температура; ночка выдалась ужасающая: я вертелась с боку на бок и потела, как корова! Светает; спущусь вниз — до чего же здесь плохо топят!
Дневник убийцы
Слышно, как Джини спускается по лестнице; она кашляет, бедняжка, — должно быть, простудилась; что за странная идея ей взбрела в голову: в метель шататься по улице, — женщины и в самом деле непредсказуемы. ..
Слышу, как она, дорогуша, кашляет — до чего же ее жалко… Хочешь, утешу тебя в своих объятиях?
Джини
Я, дорогуша, не имею привычки спать с ни на что не способными мальчишками; давай–ка ты лучше и дальше будешь тешить сам себя, как и положено в твоем возрасте.
Дневник убийцы
Мерзавка! Вот увидишь, что я с тобой сделаю, увидишь, как крепко я обниму тебя — так крепко, что твой гадючий язык наружу вывалится!
Тебе следует принять какие–нибудь антибиотики: надоело слушать твой кашель, к тому же за столом это вызывает отвращение.
На Рождество я убью Клариссу. Она, когда играет на пианино, открывает рот, и эта вонючая черная дыра вызывает у меня омерзение, мешает сосредоточиться на песне: оттуда несет горячей самкой — совсем как от тебя, дорогуша.
Знаешь что? Проявлю–ка я великодушие: готов поменять Клариссу на тебя. Выбирай. Ты же так любишь делать добро.
Не забудь. В Рождественский вечер. Через четыре дня.
Дневник Джини
Опять за старое! Нет, мне и впрямь уже надоело! Прекрасно знает, что сцапали Эндрю; все–таки любым шуткам должен быть какой–то предел! Я теперь полностью его игнорирую, ничего не пишу. Целый день все только и делали, что носились вверх–вниз по лестнице. На носу каникулы — опять все четверо будут вертеться под ногами. Так или иначе, решено: выслежу его и наконец–то увижу его физиономию — теперь я уже ничем не рискую. «В Рождественский вечер» — сплошная мелодрама, смени пластинку, сынок.
А как быть с Книгой? О, придумала: запишу для него кое–что — совсем чуть–чуть — на пленку… И засуну туда. Сразу же после обеда я демонстративно (тоже трудное слово) поднимусь наверх. И спуститься не успею, как он устремится туда; вот тут–то я вернусь и его застукаю… Если бы из носа так не текло, мне бы, наверное, петь захотелось!
Дневник убийцы
Джини только что поднялась наверх, я видел ее: усмехалась с хитрым видом. Что же ты нам приготовила, Джини? Надеюсь, что–нибудь получше твоей стряпни. Пойду взгляну.
Взгляну, что за ловушечку мне расставила наша домработница. И тем не менее приму кое–какие меры предосторожности. Старого воробья на мякине не проведешь, Джини, а я в этом деле — старый воробей, опыта мне не занимать…
Вот, значит, как… Думаешь, меня это сколько–нибудь задевает, а мне плевать на то, что в данную минуту ты сжигаешь ее, ясно? Плевать; я слышу, как трещат смятые листки, слышу, как пламя сжирает их; Книга, моя Книга, — о, ты не ведаешь, что творишь, и прекрати немедленно это глупое заклинание, Джини, ты покушаешься на мою жизнь, хочешь лишить меня жизненной силы.
Я включил магнитофон и говорю с тобой. Ты слышишь меня? Слышишь мой голос? Ты только что подписала свой смертный приговор, сволочь; твои слова бессильны против меня: я очертил мелом круг, я защищен от них, защищен — noli me tangere[4], — Джини; я тоже знаю слова, способные пройти сквозь стены и разить, словно камни. Ты, идиотка, лишила жизни Книгу и — в то же время — саму себя: это твоя жизнь уходит из вен под треск злодейски разведенного тобой огня, да, ты — злодейка; чувствую, сюда кто–то идет, это ты, да, это ты, я слышу твое дыхание…
Дневник Джини
Он был там! Я едва не сцапала его! Он был там: шептал, склонившись над магнитофоном, я слышала его злобный голосишко психа — он стоял ко мне спиной… Нет, все было вовсе не так, вот как это было:
Я неслышно поднимаюсь по лестнице, слышу шепот — то громче, то тише, — словно два переплетающихся голоса. Сдерживая дыхание, останавливаюсь под дверью, резко отворяю ее и вижу чью–то спину — чью–то спину в меховом манто, и этот кто–то говорит в магнитофон; какое–то мгновение я все это вижу, поднятый воротник манто скрывает опущенную голову, и я думаю: это была Она, Она — ничего другого мне на ум не приходит. Она оборачивается, на ней маска — все происходит так быстро, — смеющаяся маска, какие надевают в канун Дня всех святых.
Я бросаюсь вперед, она — тоже, у меня в руке револьвер, я сжимаю его, но тут происходит невесть что: манто оказывается у меня на голове, я отбиваюсь, не стреляю, потому что револьвер падает на пол, а я тут же получаю удар в живот, причем очень сильный — съеденный обед из желудка перекочевывает в рот, — складываюсь пополам, кто–то сжимает у меня на голове манто; «Я больше не играю, — кричу я, — чур, больше не играю!» Револьвер лежит рядом со мной, чья–то рука поднимает его. Я кричу: «Нет! Нет!» — «Джини? (Голос Старушки.) Джини, где вы?» Меня толкают, я падаю, сбрасываю манто — пушки нигде нет, — бегу сломя голову, спускаюсь по лестнице, останавливаюсь внизу.
Старушка накрывает на стол к чаю, доктор читает газету, Марк включает телевизор, Старк ищет какой–то журнал, Кларк смотрится в зеркало у входа, Джек сидит за пианино — звучат первые аккорды национального гимна. Я задыхаюсь, кашляю. «Джини, на что вы похожи — посмотрите на себя в зеркало, в чем дело?» — спрашивает доктор, глядя на меня поверх газеты, и тут же опять утыкается в свое чтиво.
На какой–то миг у меня возникает ощущение, будто все они улыбаются — смеются себе под нос — надо мной. Я отомщу за себя, черт возьми, обязательно отомщу!
Револьвера у меня больше нет. Он забрал его. Что же делать? Он меня скоро убьет? Да нет, убийца же не он, а Эндрю… Ох уж этот кашель — кашляю не переставая, я нездорова… Снова поднялась наверх — убрать манто. Возле двери висела та маска; я перегнулась через перила, спросила: «Чья это маска?» Они пожали плечами, а я швырнула ее в мусорное ведро. Забрала магнитофон и долго слушала его голос — совсем спятил, бедняга!
Выбросила пепел, оставшийся от книжки: теперь все это никому уже не нужно. Мне никогда не узнать, кто он такой, но с этим делом пора завязывать, ведь в конечном счете главное — чтобы этот кошмар прекратился.
11. ВТОРОЙ РАУНД
Дневник Джини
За два дня — ничего. Мертвый штиль. Они преспокойнейше готовятся к празднику. Купленные книжки я убрала на полку. После Рождества уеду. Не думаю, что он станет разоблачать меня: это тоже была игра, часть нашей игры. Жаль, что разгадки я так и не узнаю. Мне немножко грустно. Может, оттого, что чувствую: этот период моей жизни закончился и мне снова нужно отправляться в неведомые края. А в душе я совсем не путешественница и уж подавно — не образцовая прислуга. Хватит ныть, пойду–ка лучше помогу им все развесить и расставить.
Интересно, почему он больше не пишет. Наверное, для него игра тоже закончилась. На животе у меня синяк — там, куда он ударил, — здоровенный синяк, и он все время болит; что за жестокость… все–таки, должно быть, он немножко не в своем уме…