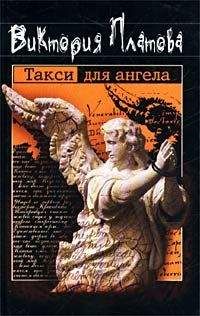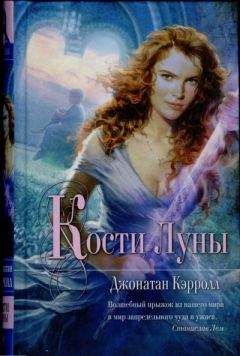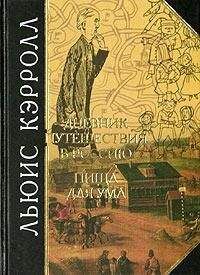Мне оставалось только восхищаться тонкой игрой конкуренток и исподтишка следить за несчастным Фарой, который был вовсе не готов к такому повороту событий. За каких-нибудь полтора часа он четырежды поменял цвет лица (по всему спектру — от теплой до холодной его части). А эмоции! Поначалу Фару согревала надежда на то, что фурии сорвутся и снова вцепятся друг другу в волосы. На смену надежде пришло легкое недоумение, переросшее в стойкое удивление. И наконец, режиссер впал в ярость. Тихую и поэтому особенно впечатляющую. Масла в огонь подливала Дарья, вороном кружившая над попавшим впросак горе-профессионалом: “Нужно знать, где, когда и сколько, парень!"
Только Чиж оставался безучастным: цветосветовые пятна мелькают, объекты движутся, мизансцены строятся сами собой, камера работает — что еще нужно?..
Покончив с воспеванием творчества, дамы перешли на забавные случаи — из карьеры и жизни. И даже на легкое философствование. Потом перескочили на издателей. В этом вопросе все четверо были поразительно единодушны.
— Негодяи, — сказала Минна. — Только вал у них на уме.
— Подонки, — сказала Tea. — Набивают карманы за наш счет. Проще “Войну и мир” состряпать, чем лишнюю копейку у них выпросить.
— Сволочи, — сказала Софья. — Тем более что “Войну и мир” у вас сейчас никто не купит, дорогая Tea. Времена адские. А этот дешевый глянец?
— Какие времена — такие и обложки, дорогая Софья.
— А художники! Где они только набирают этих бездарей? В привокзальных сортирах, что ли, отлавливают?
Все трое посмотрели на Аглаю — с той предельной степенью укоризны, которую могла позволить себе протокольная съемка. Аглая была единственной из всей четверки, кто издавался не в унизительных анилиновых обложках, а во вполне пристойном сафьяновом переплете. Почти академическом.
— Может быть, объявим забастовку? Выйдем на улицу с плакатами? — Аглая подмигнула конкуренткам, и благодатная тема “Хуже издателя может быть только послеродовая горячка вкупе с мягким шанкром” увяла сама собой.
…Периодически все выходили в зимний сад и прилегающую к нему оранжерею — покурить. После одного такого перекура Аглая потеряла всякий интерес к дамскому джокеру (благо все остальные потеряли к нему интерес еще раньше). Теперь она вместе с Райнером-Вернером (что за трогательное единодушие!) наматывала круги вокруг шахмат и донимала очумевшего Ботболта расспросами об истинном значении фигур.
Польщенный таким вниманием, Ботболт начал путано и длинно объяснять, что все шахматы сделаны по специальному заказу в Тибете, что королем на доске выступает божество ясного неба Эсеге Малан-Тенгри. А роль ферзя играет Сахилгата Будал-Тенгри, в ведении которого находятся громы и молнии.
Остальные функции были возложены на Саган Себдега, желтую бешеную собаку Гуниг, бабушку Маяс Хара и быка Буха-Нойон Бабая, успешно заменившего коня.
Настолько успешно, что “все приезжающие к тайше Дымбрылу Цыренжаповичу Улзутуеву не нарадуются на такую красоту”.
Интересно, что такое тайша? Оч-чень уважаемый человек? Или криминальный-авторитет-пальцы-веером-по-бурятски?
Аглае так понравился весь этот питомник тотемов, что она тотчас же предложила Райнеру сыграть партейку. Игроки они были неважные, да что там, вообще никакие! Уж я-то со своим первым разрядом могла по достоинству оценить их игру. Брутальный немец был способен только переставлять фигуры, никакого композиционного мышления (кто бы сомневался!); Аглая выглядела чуть лучше, в какой-то момент ей даже удалось сварганить (очевидно, по неведению) некое подобие защиты Тарраша. Шахматы так увлекли ее, что через каждые пять минут она отправлялась в оранжерею с очередной сигаретой: обдумывать ходы.
Спустя полчаса, с трудом загнав партию в колченогий эндшпиль, Аглая подозвала Ботболта.
— Тащите-ка ваш эксклюзивный “Клико Понсардин”, дружище. Я хочу провозгласить тост. И прошу вас всем сообщить об этом.
Ботболт кивнул круглой головой и отправился на кухню.
Но только стоило ему выйти из зала, как между Аглаей и Райнером-Вернером возникла нешуточная склока — Вам мат, — объявил Райнер. Но Аглая поражения не признала.
— Что же это вы сделали, голубчик? — спросила она. — Буха-Нойон Бабай так не ходит. Это же конь! Конь, а не ладья.
— Да нет же! Это вовсе не конь. Это и есть ладья — бабушка Маяс Хара. Маяс Хара, а не Бабай. Я же помню…
Со стороны их разговор напоминал оживленную беседу сумасшедших с непередаваемым национальным колоритом. То-то бы порадовался тайша Дымбрыл Цыренжапович Улзутуев!
— Не морочьте мне голову! — вскипела Аглая. — Ни черта вы не помните. Немцы вообще ни черта не помнят, до сих пор думают, что Берлинская стена сама упала, от порыва ветра!
— И все-таки это не конь. Это ладья. Ладья. Die Turm. Вот чего Аглая не могла вынести, так это настойчиво-туполобого немецкого.
— Ботболт! — заорала она. — Ботболт, идите сюда немедленно!
Ответа не последовало. Махнув рукой, Аглая отправилась в оранжерею — “я должна выкурить сигарету, Райнер, иначе мне придется размазать вас по стенке”. Она явилась через несколько минут — три-четыре затяжки, не больше. Еще спустя некоторое — довольно продолжительное — время пришел неспешный Ботболт, в руках которого подрагивал поднос с шампанским.
— Ваше шампанское.
— Взгляните-ка! Это конь или ладья? — Аглая не глядя сняла бокал с подноса.
— Бабушка Маяс Хара, — подтвердил Ботболт, пристально глядя на доску. — Ладья.
— Ну, что я говорил? — возликовал Райнер-Вернер и последовал примеру Аглаи, тоже взяв бокал. — Вам мат.
Ботболт, который, очевидно, терпеть не мог сцен грубого интеллектуального насилия, по-быстрому отвалил.
Аглая же все еще не могла успокоиться.
— Так не пойдет, — поджала она губы. — Я была введена в заблуждение… Я никогда не проигрываю, милый мой, никогда.
— Но это же очевидно!
— Никогда! — Аглая повела плечами, топнула ногой и неожиданно шмякнула бокал об пол.
Эта исполненная внутреннего драматизма сцена осталась практически незамеченной. Для всех — кроме меня. И флегматичной камеры Чижа. Хоть что-то можно будет выдоить из четырехчасовой кассеты: впервые надменная нетитулованная королева потерпела фиаско — пусть и в шахматах.
Я была предпоследней, кто взял бокал с подноса.
Последней оказалась Дашка.
Вот здесь-то и произошла маленькая заминка: Аглая тоже отправилась в поход за шампанским — ведь свою емкость с “Veuve Cliquot Ponsardin” она уничтожила.
Но Дарья вовсе не собиралась уступать детективщице.
И подошедшей Аглае осталось только лицезреть пустой поднос.
— Ускользнул, — приступ внезапной ярости по поводу проигрыша прошел. Аглая была сама любезность. — Прямо как в старой песенке.
Аглая подмигнула опередившей ее Дашке. И произнесла длинную фразу на французском. Беглом, небрежном и удивительно чистом французском.
— Жаль, что я не могу этого напеть.
Давление было слишком очевидным. Очевидным был и подтекст: “Вы, милая моя журналисточка, всегда будете самозванкой. Славы ли это касается или остатков торта на презентации у разбогатевших галерейщиков. Или остатков спермы в постелях обедневших плейбоев. Или — как сейчас — бокальчика. Вы всегда будете чуть ниже — там, в толпе. Рядом — и невыносимо далеко”. И Дарья — несгибаемая, непримиримая воительница Дарья — неожиданно стушевалась. Сникла. Дала задний ход — Извините. Может быть…
— Вы знаете французский?
— Нет. — Бокал в Дашкиных пальцах дрогнул. — Возьмите…
— Ну, что вы… Эта проблема легко разрешима, не правда ли, Ботболт?
Ботболт нагнул подбородок и удалился.
— А теперь тост! Тост!.. Я бы хотела выпить за вас, — торжественно произнесла Аглая, обращаясь ко всем сразу. — Думаю, через пару минут мне представится эта возможность.
Она добилась чего хотела (если, конечно, она добивалась именно этого) — все, как идиоты, стояли с шампанским.
И ждали ее одну. Королеву.
Наконец появился Ботболт с таким же одиноким, как и Королева, бокалом на подносе.
"Veuve Cliquot Ponsardin” перекочевало к Аглае. Она подняла бокал и обвела взглядом присутствующих.
— Я бы хотела выпить за вас. За вас, дорогая Минна. За вас, дорогая Tea. За вас, дорогая Софья… Я счастлива видеть вас, я счастлива познакомиться с вами. Делить нам нечего. Ведь мы, в конце концов, делаем одно общее дело. — Она повернулась к камере. — Мы служим нашему читателю. Так что — рога в землю, шпаги в ножны, а флоты в гавань. Перемирие на всех фронтах. Если, конечно, никто не возражает.
Никто не возражал. Попробовал бы хоть кто-то возразить под прицелом объектива!
Все сдвинули бокалы и чокнулись.
Аглая первой — и здесь она не хотела терять первенство — сделала глоток. Маленький глоток. И снова улыбнулась.
— Странный вкус… Вы не нахо…
То, что произошло спустя секунду, навсегда запечатлелось в моей памяти. А сама эта секунда вдруг раздвинулась, как театральный занавес, обнажив самые потаенные уголки кулис. СС, ТТ и ММ с вымученными улыбками на лице. Ботболт с подносом в руках. Камера Чижа, направленная прямо на Аглаю. Прерывистое дыхание Райнера-Вернера у меня за спиной. Брови режиссера Фары, разлетевшиеся подобно пеночкам из гнезда. Дашка с проливающимся на платье шампанским — мое собственное зеркальное отражение.