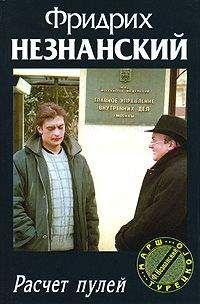— Хорошо отдохнула?
— Пишет, что много дождей.
— Одному-то тяжело? — не без иронии произнес Меркулов.
— Знаешь, Костя, очень! — в тон ему ответил Турецкий. — У меня какое-то предчувствие, что дня через два поступит какой-нибудь сигнал, и мы возьмем Крепыша. Не может быть, чтобы такая удача с фотороботом не сработала в конце концов.
— Да… пора бы, — сказал Меркулов, и непонятно было, кого он корит: себя или Турецкого?
Вскоре Александр Борисович покинул прокуратуру. Подойдя к своему «жигуленку», оглянулся и в первый момент не увидел Нину. Вечерняя нарядная толпа текла по обе стороны улицы. Возле перекрестка он различил ладненькую девичью фигурку в белом платье и, успев мимолетно восхититься, узнал Нину. Но теперь это восхищение почему-то перемешалось с тревогой: слишком уж большую часть души забрала в короткий срок эта молодая женщина. А всего неделю назад он и не подозревал о ее существовании.
— Хочешь повести машину? — спросил он.
Желание и растерянность отразились на ее лице.
— Да… — произнесла она с запинкой. — Но я забыла права.
— Тогда опыт отменяется.
— Лучше скажи: переносится на следующий раз.
Турецкий кивнул.
— Мой бывший родственник, — сказала она, — квартиру оставил, но машину забрал. Все по справедливости. Хотя у него уже три машины.
— И по-прежнему ревнует тебя? — спросил, повернувшись, Турецкий.
Нина махнула ладошкой:
— Сейчас ему не до этого. Банк переживает трудности.
— Кстати, я давно хотел спросить: почему ты не поменяешь место работы?
— Не так-то это легко. С такой зарплатой места не найдешь по объявлению.
Вырулив на Кутузовский проспект, Александр Борисович помчался на предельной скорости. На сигнал гаишника остановился, вышел из машины. Нина увидела, как постовой дважды козырнул. Турецкий вернулся немного раздосадованный, но сдержанный.
— Все в порядке? — спросила Нина.
Турецкий кивнул.
Дальше домчались без остановки. Вечер получился лиричный, ласковый. Были и любовь и праздник. И снова возник разговор о банке.
— Что ты говорила про «Эрмитаж»? Какие трудности?
Нина улыбнулась:
— Ты не можешь не работать даже сейчас? Мы потеряли на офшорных операциях большие деньги. И теперь не можем вернуть огромный кредит одной банковской ассоциации.
— Насколько это серьезно?
— Я же не вхожу в правление. Но мне кажется, что Виткевичу поставили очень жесткие условия.
— А как велик кредит? Знаешь?
— Что-то около двадцати миллионов.
— Долларов?
— Ну, не рублей же.
— Я думаю, что жизнь твоего бывшего родственника под угрозой.
— Лет пять назад была такая же ситуация, и он вывернулся с легкостью циркового жонглера.
Зазвонил мобильник. Александр Борисович вынул из кармана плоскую коробочку:
— Да, Турецкий.
— Ты что, отключался? — загудел голос Грязнова.
— На два часа.
— Это стоило нам больших нервов.
— Что-нибудь случилось?
— Можешь себя поздравить. А заодно и меня. Фоторобот сработал. В Ступинском районе старенький, но мудрый опер обнаружил в одном парне некоторое сходство с фотороботом. Но уверенности пока нет.
— Через полчаса буду. Ты на работе?
— А где же еще. Мы здесь уже целый час стоим на ушах.
— Его надо брать живым. По-умному, — сказал Турецкий. — Трупы нам не нужны.
— В том-то и дело, — прогудел Грязнов. — Приезжай.
Нина с потерянным видом стояла в прихожей.
— А я думала, ты хоть сегодня останешься. А послезавтра… — Взгляд ее горестно погас.
— Послезавтра жизнь не кончается, малышка! — Турецкий умел исчезать мгновенно, когда требовалось. И она это поняла.
— Как же ты сядешь за руль?
— От ста граммов коньяка ничего не будет. Я тебе позвоню.
По установившейся традиции она не вышла его провожать и грустно стояла у окна.
В кабинете Грязнова сидел его заместитель Гончар Андрей Алексеевич, которого Турецкий недолюбливал. По всей видимости, это чувство было взаимным. Но приходилось терпеть. Невысокий, с брюшком и круглой, как у кота, головой, только лысой, он всегда глядел напряженным взглядом, точно хотел успеть опередить всех. И только нерасторопность начальства мешала ему переловить всех бандитов в Москве.
Но сейчас и он показался Турецкому немного расслабленным и довольным.
— Сработало! Сработало! — радостно повторял Грязнов. — Конечно, такая удача, что нашлась свидетельница, не могла не сработать. А этого оперативника я представлю к медали.
— Это хорошо! — произнес жестко Турецкий. — Только бы не посмертно. И свидетельницу надо сохранить.
Грязнов враз остыл.
— О свидетельнице знаем только мы, — сухо сказал он. — А оперу я наказал беречься и не встревать. Только следить, да так, чтобы никто не заметил.
— Мне бы хотелось самому поехать, — сказал Турецкий. — На месте сориентироваться и допросить.
Гончар осклабился. Лицо его сделалось мягким и добрым.
— Куда же на ночь-то? Этот тип живет там две недели. Если сейчас брать, он большого шума наделает, не дурак. Если это тот, кого мы ищем. У него там небось и автомат, и пулемет. К нему надо артиста посылать, чтобы молока спросил, грибков. Это же не само Ступино, а деревня за десять верст. Он же от любой машины в ночи шарахается, прячется. В ночном бою его трудно взять. Нужно на утро отложить.
— Да, я думаю, утро вечера мудренее, — согласился Грязнов. — Из Ступина его уже не выпустят. Вся местная милиция стоит на ушах. Если мы хотя бы одно звено зацепим, мы и всю цепочку вытащим.
Крепыш вышел на опушку и увидел за узкой речкой всю деревню на взгорье. Сердце сделало два лишних удара. Остановилось, потом заработало медленнее, с перебоями. Он вспомнил, как пятилетним мальчишкой вот так же шел из леса с отцом. У отца был полный короб с грибами, а он последние рассыпал из корзинки в кустах, когда они спасались от разъяренного лося. С тех пор Крепыш не уважал лосей. Если бы не тугой кустарник, который отец разглядел на маленькой лесной полянке, рогач закатал бы обоих. А сквозь кустарник он не мог пробиться и рыл землю копытами, поглядывая на спрятавшихся людей кровавым глазом. Кто-то из людской породы, видимо, поранил его, и злобный зверь сводил счеты со всем человечеством.
В тот же день возле другой, соседней деревни лось закатал насмерть пьяного мужика, и отец был убежден, что это был тот самый, их «знакомый».
Крепыш перешел речку по шаткому мостику, поглядел на плавающих рыбок, стайками разлетавшихся от любого ветерка или упавшего листика.
Поросший ракитником берег бросал тень на заводи, где раньше, по слухам, водились сомы. Но теперь, кроме двух небольших щурят и полутора десятка окуней, Крепыш ничего не поймал за всю неделю.
Правда, он и рыбачить стал недавно. До этого отсыпался. После бегства из Москвы он понял, что самое безопасное для него место на земле — это родной дом. В деревне, откуда он сбежал девятилетним пацаном, его уже никто не помнил. К матери, которую не видел пятнадцать лет, явился под видом дачника.
Старую Макаровну он заметил во дворе первым и успел слегка приготовиться к встрече. Он чуть было не разнюнился. Но память о Горбоносом и его ищейках завернула его нервы обратно в комок и заледенила душу. Надо было спасать свою жизнь, и раскисшее нутро для этого не годилось.
— Слышь, бабаня! — обратился он к матери, застывшей в дверях с ополосками для кур. — Ты комнатку не сдашь на месячишко? Отпуск у меня. А тут, говорят, и грибы и речка. А значит, рыба…
— Речка вон! — мотнула головой старуха. — Да только рыба вышла вся. Травят ее, кому не лень.
— Так что насчет комнаты?
— А ты у других хозяев поспрашивай, — был ответ. — У них дома покрепче и площади поболе.
— А мне нравится твой домишко, — бодро сказал Крепыш. — Он крайний, к лесу поближе. До девок я не охоч, беспокоить не буду. Тысячу рублей даю в залог.
— Это как это?
— А так. Не понравлюсь — выгонишь. А тысяча рублей у тебя останется.
— Почему же ты до девок не охоч?
— Устал я… Мне бы отоспаться.
— Как звать?
Крепыш помедлил.
— Сеня! Семеном кличут…
— А меня Галина Макаровна.
Крепыш чуть было не сказал «Знаю!» и, робея, взошел на крыльцо. Дом помнился просторным и светлым. Весь он пропах свежим хлебом, который мать пекла по утрам. Теперь же показалось темно и мрачно. Запах пыли, старого отсыревшего тряпья и прокисших щей рубанул в ноздри. На черном простенке, отделявшем большую «залу» с русской печкой посередке от маленького закутка, были налеплены фотографии соседей, родственников, молодой матери, которая показалась ему носастой и некрасивой. Папашу узнал — сухонькое обезьянье лицо с вылупленными злыми глазами. Себя, мальца, под забором справляющего нужду. Кто-то снял из озорства.