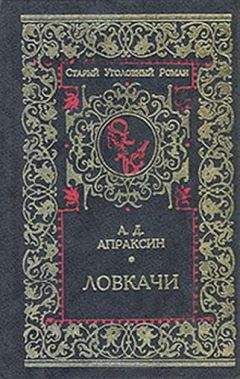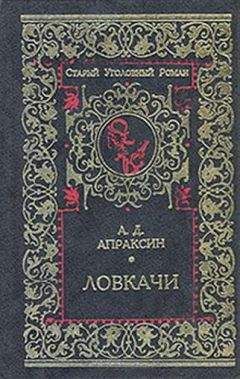По знаку Леберлеха еврейка встала на его пути, но он даже и головой-то не кивнул в ответ на ее поклон, а самому фактору только строго сказал:
— Я велел тебе передать, что ты мне больше уж не нужен.
И, не обращая ни малейшего внимания на припадания Леберлеха, Хмуров вошел к себе в номер
Не прошло и пяти минут, как Леберлех стал прислушиваться к происходившему в номере через дверь, но, ничего не слыша, он припал к замочной скважине и столь же бесполезно стал туда глядеть. Наконец, он решился и сперва тихонько, а потом сильнее постучался.
Не скоро послышался ответ. Номер состоял из передней и трех комнат. Но Леберлех хоть и трусил, а вошел-таки и откашлялся.
— Кто там? — окликнул его Иван Александрович из гостиной.
— То я, ясний вельможный пан, то фактор Леберлех.
— Чего тебе еще надо? Ведь я сказал тебе, что ты можешь уходить.
— А Сарра с бриллиантами тоже должна уходить или может еще вас подождать в коридоре?
— И Сарра пусть уходит: мне бриллианты более не нужны.
— За что ж пан ясний так прогневался на нас?
— И не думал гневаться! Дело совершенно просто: едва ты ушел, ко мне заехал один приятель и, когда я ему рассказал, что хочу купить ожерелье тысячи в три, он повез меня к своему ювелиру, где я нашел не только прекрасные вещи, но и кредит на какое хочу время.
— Кредит? — переспросил как-то нараспев Леберлех. — Да разве Сарра не сделает ясному пану какой угодно кредит?
И, не дождавшись ответа, он отпер дверь и позвал в номер терпеливо ожидавшую старуху. Едва она вошла, как Леберлех стал быстро-быстро ей рассказывать на своем жаргоне, должно быть, ужасные вещи, потому что она неоднократно менялась в лице.
Наконец она спросила:
— А ясний вельможный пан уже купил бриллианты у того ювелира?
— Нет еще, но ездил смотреть. Я обещал решить дело после завтрака, часа в два.
— То ясний пан пусть у меня сперва еще посмотрит, — сказала еврейка и прямо направилась со своими ношами к столу, где, не долго думая, и раскрыла известный ящик.
Она вынимала из него одну вещь за другою и поочередно передавала их Хмурову.
Он уже успел присмотреться к ним и знал их приблизительную цену. Потому-то он и держал долее остальных в руке именно то ожерелье, которое наиболее соответствовало его требованиям. Еврейка с одной стороны, Леберлех с другой восхищались предметом и уговаривали его купить.
— Ну да, — заметил как бы мимоходом Хмуров, — свяжись с вами, а потом будете надоедать каждый день.
Еврей с еврейкою переглянулись, и потом оба сразу забожились, что они знают, с кем имеют дело, и верят ясновельможному пану, как самим себе.
Хмуров положил ожерелье на стол, отошел в сторону, сел в кресло и сказал:
— Все это прекрасно! Сущность в том, что хотя у меня и есть деньги в банке, но они заключаются в ценных бумагах, на которые теперь огромный спрос. Вследствие этого мои бумаги повышаются, и, по мнению опытных банкиров, они еще месяца два будут повышаться и могут дойти до баснословной цены. Мне нет никакой охоты терять от их продажи.
— Як же можно! — воскликнули разом и Сарра, и Леберлех.
— Вот то-то же и есть! — продолжал Хмуров. — А ювелир, которого мне рекомендовали, ждать готов сколько я сам ему назначу.
— И мы готовы.
— Да, но весь вопрос в том, можете ли вы ждать уплаты целых два месяца? — спросил тоном сомнения Хмуров.
Быстро переглянулся Леберлех с Саррою и столь же быстро ответил:
— Сколько сам ясний вельможный пан прикажет, столько мы и будем ждать.
— Я напишу вексель.
— Можно и вексель.
— На два месяца.
— Можно и на два месяца.
— В таком случае, — заключил Хмуров, — я, пожалуй, готов взять вот это ожерелье за три тысячи и даже думаю, что ювелир за такие же камни взял бы с меня дороже. Леберлех, беги за вексельной бумагой.
— В одну минуту.
Старуха осталась в номере с глазу на глаз с ясновельможным паном, но никакие дурные мысли уж не тревожили ее ум. Она перебирала вещи, перетирала их замшею и прятала в шкатулки, даже и не подозревая того, о чем думал теперь Хмуров, издали поглядывавший на нее.
Он думал о том, как легко бы было человеку сильному и смелому воспользоваться доверием старухи и ограбить ее. Но тут же он сознавал, что мудрено бы было скрыть следы преступления, и продолжал смотреть на нее, удивляясь ее доверию, ее спокойствию.
Вскоре вернулся Леберлех, и, еще раз полюбовавшись на некоторые вещи, но все-таки остановившись на уже избранном колье, Хмуров принялся за писание векселя.
— Условие, — сказал он строго, передавая документ еврейке, — до срока мне даже и не напоминать о долге: я этого не люблю.
Старуха поклонилась и вышла, но Леберлех подошел к Хмурову поближе и тихим шепотом спросил:
— Може, мне что будет за мои труды и верную службу?
— Тебе? Изволь!
Хмуров достал из бумажника десятирублевку и протянул ее фактору.
— Падам до ног, ясний вельможный пан, — стал тот рассыпаться в благодарностях.
— Ну, хорошо, хорошо. Можешь теперь идти. Да и мне самому пора.
Едва Леберлех удалился, как Хмуров тоже снова оделся и вышел из гостиницы. Он громко крикнул извозчику адрес Брончи Сомжицкой и действительно поехал к ней, но, конечно, никакого ожерелья ей не подарил, а только просидел у нее часа полтора, и сделано это было для отвода глаз. Он рассчитывал прямо из дома пройти в ломбард.
Между тем отношения его к Бронче Сомжицкой становились все сердечнее. По крайней мере, с ее стороны уже замечалось серьезное увлечение. Молодой танцовщице нравился этот щеголь, и, давно наскучившая его предшественником, она отдавалась возрастающему чувству увлечения совершенно беззаветно.
Хмуров если и тратил много денег на ее глазах, то ее самое, собственно говоря, не особенно баловал в этом отношении. Правда, у нее было все, что требовалось. Роскошные туалеты, сделанные прежде, конечно, не успели обноситься. Карету или коляску, смотря по погоде, Хмуров присылал ей аккуратно ежедневно. Обедали они часто вместе, а ужинали уж положительно в одном из лучших варшавских ресторанов. Как-то еще в самом начале Бронча Сомжицка упомянула, что вся жизнь обходится ей в месяц в триста рублей, и, когда ушел от нее Хмуров, она нашла на своем столике эту сумму. Таким образом, ей казалось, что щекотливый денежный вопрос раз навсегда улажен и что Хмуров догадается отныне сам ежемесячно повторять этот необходимый для нее взнос.
Помимо этих мелочей, каковыми она сама считала все эти вопросы, остальное шло прекрасно.
Начать с того, что панне Сомжицкой жилось куда веселее с Хмуровым, нежели с его отбывшим предшественником. Хмуров оставался с нею с глазу на глаз только в редких случаях, и тем более дорожила она этими часами. В остальное же время ее всегда окружало блестящее общество из веселящихся молодых людей, и скучать Бронче никогда не приходилось.
Целою гурьбою являлись за нею на репетиции, усаживали ее в экипаж, раскланивались с нею в часы модного катанья.
За обедом в одном из первоклассных ресторанов Варшавы бывало ежедневно так весело, что с соседних столиков поглядывали на их большой стол и завистливо улыбались взрывам их радостного хохота. Сыпались остроты, анекдоты, миленькие пикантные рассказики, и все это имело как бы некоторое отношение к ней или, по крайней мере, несомненно, предназначалось для развесления преимущественно ее же.
Так шли дни за днями, так текли деньги у Хмурова, все время которого распределялось следующим образом: он вставал не позже десяти, занимался своим туалетом, читал газеты, уезжал или уходил либо к театру — ждать окончания репетиции, либо к кому-нибудь из приятелей, или же, наконец, к самой Бронче Сомжицкой на квартиру. Завтракал он у себя слегка перед уходом. Потом наступал час обычной прогулки. Там, в Уяздовской аллее или в Лодзенковском парке, снова все встречались. Если же бывала дурная погода, он просиживал у знакомых или у себя до обеда. Обед сопровождался легкими возлияниями, по преимуществу красного винца, и только иногда переходили к шампанскому. Затем театр, ужин и проводы им Брончи к ней на квартиру или Брончею его к нему в отель.
Нельзя сказать, чтобы Хмуров с своей стороны тоже привязывался к Брониславе Сомжицкой. Одно только несомненно и бесспорно: она тешила его самолюбие, благодаря тому что на них, то есть на него с нею, было обращено всеобщее внимание.
И понемножку, увлекаясь мелочами теперешней жизни, Хмуров, по свойству своего крайнего легкомыслия, не то чтобы забывал совершенно остальное, но, во всяком случае, начинал уже пренебрегать им.
Реже писались письма в Москву, а те, которые теперь отправлялись далеко уже не ежедневно, были короче, и трудно становилось автору держаться в них прежнего тона печали, любви и душевного стремления к скорейшему сближению. Он продолжал лгать относительно мнимой болезни столь же мнимого и никогда не существовавшего дядюшки. Он говорил, что старик, опасаясь скорой кончины, возложил на него устройство дел. Конечно, прибавлял он каждый раз к этому, это ему скучно, но ни страстью, ни тоскою уже не отзывало от этих приписок, тогда как ему казалось, что и так все сойдет прекрасно.