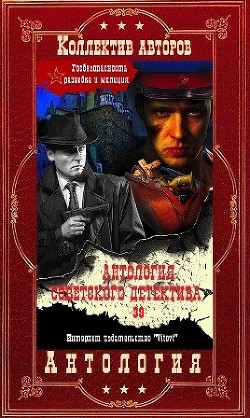― Галчонок, сто грамм и вилку! ― и улыбнулся всем, и оглядел всех, ожидая ликующей реакции. Поймав вопросительный взгляд Гали, добавил серьезно: ― Поторопись, родная.
― Мы разговариваем, Марик, ― строго объяснил Роман.
― Вы не разговариваете, а едите, ― резонно заметил Марик. ― А разговаривать будем втроем.
Объявилась Галя, держа в одной руке графинчик и рюмку, в другой вилку. Демонстративно бросила все это перед Мариком, который тут же налил рюмку, вилкой пошарил в грибах, выбирая грибок посимпатичнее, нашел, выпил, закусил и выдохнул удовлетворенно.
― Все? ― поинтересовался Роман.
― Минуточку, ― одернул его Марик и налил из графинчика вторую. Последнюю. Он бусел на глазах. Выпил, грозно глянул на Романа. ― Ты как со мной разговариваешь, сопляк?
― Готов, ― понял Роман, встал, за шиворот поднял Юркина, взял его под мышку (под правую руку), левой рукой захватил стул и направился к выходу, к понимающему швейцару Тихону. Марик болтал ногами (аккуратно) и языком (непотребно), но никто на это внимания не обращал: привыкли, что каждый день Юркина в конце-концов выкидывают. Роман сдал его Тихону и вернулся.
― С чего это он так сломался? ― поинтересовался Александр.
― Не умеет. А гулять хочет, как знаменитость из легенды.
― Что делать будем? ― помолчав, задал главный вопрос Смирнов.
― Отпустил его Алик или он сам сбежал ― не имеет значения, Саня.
― Имеет. Если Алик его отпустил, то опознавать не будет.
― Зачем тебе третий? Грабежом этим пусть район занимается. А Самсонова нам отдадут. Чует мое сердце ― он.
― Самый глупый. Дурачок подставленный, ― вспомнил Костины слова Александр.
― Вот мы и займемся дурачком.
― А кто его подставил?
Галочка принесла филе по-суворовски. Алик поцеловал ей локоток и попросил:
― Санкцию на обыск, Галочка.
― Сорок три шестьдесят, ― ответила догадливая Галочка и, получив от Казаряна две бумажки по двадцать пять, ушла за кофеем. Заметав филе, они откинулись на стульях и закурили.
― Решили колодец до воды копать? ― огорченно понял Роман.
― А куда деваться?
― Альку прижать надо.
― Прижмешь его, как же! Сначала отпустил, а потом милиции сдал? Мы же благородные, мы слово держим.
― Тогда свидетели.
― Свидетели от страха того паренька не видели, они на пистолет смотрели. Алька-то бил, прицеливался куда ударить и, ясное дело, рассмотрел его. Если даже паренька найдем, на честном, без подтасовки проведенно опознании свидетели его не отыщут.
― А мы с подтасовкой, Саня.
― Противно. У меня предчувствие, что паренек из твоих подопечных.
― У меня не предчувствие, а уверенность. Даже знаю кто: Стручок, Виталий Горохов. Так что давай с подтасовкой.
В окно бешено стучали. Роман отодвинул занавеску. С улицы Горького на них смотрело лицо, кошмарное от того, что прижалось носом, губами к немытому стеклу. Восходящая звезда помостков и экрана, обнаружив их, ликовала ― кривлялась и грозила.
Вдруг оказалось, что завтра ― Первомай. Праздники пришли и прошли. Льдина на Чистых прудах превратилась в серый пятачок. Алик отвлекся, глядя на этот пятачок.
― Ну? ― поторопил его Александр.
Алик еще раз посмотрел на фотографию. Даже в черно-белом изображении угадывался выдающийся румянец Стручка.
― Молоденький какой, ― сказал Алик.
― Ну?! ― поторопил Александр.
Туго забинтованная пасть Николая Самсонова молчала. Гражданин со звонкой фамилией Француз оказался мелким хулиганом, сявкой, которого Колхозник использовал втемную, на одно это дело, и теперь выйти по-быстрому на концы можно было только через Стручка.
― Не знаю я этого паренька, Саня.
― Ты смотри, смотри внимательнее! ― злобно приказал Александр.
― А чего смотреть? Не знаю, значит, не знаю.
― Эх, Алька, Алька, а еще друг называется!
― Я тебе, Саня, друг, а не майору милиции.
― А Саня ― майор милиции, и больше ничего.
― Если так, то жаль.
Александр поднялся со скамейки, встал и Алик. Стояли, изучали друг друга. Два здоровенных амбала. Александр покачался на каблуках, сказал на прощание:
― Стыдно тебе будет, чистюля, когда свидетели его опознают.
― Их дело ― опознавать, мое ― стыдиться.
― Хреновину-то не надо нести. ― Александр вырвал фотографию из рук Алика, спрятал в карман. ― Я слово в сорок пятом дал Ивану Павловичу извести всю эту нечисть. И изведу.
Алик ткнул пальцем в смирновский пиджак, в то самое место, где лежала теперь фотография, улыбнулся во все свои тридцать два зуба, спросил:
― Паренек этот ― нечисть?!
― Если ты его выгородишь, станет нечистью.
― Запомни, тетка, если ты меня обманешь, я тебя за укрывательство упеку! Сроком на два года! ― пообещал Казарян.
Наштукатуренная баба всплеснула руками:
― За что, за что? Я ж тебе в прошлый раз все выложила, все, как есть! Он мне двадцать шестого сказал, что к бабке в Талдом поедет, и больше я его не видела.
― Нет его в Талдоме.
― А я-то тут при чем?
― Насколько я понимаю, ты матерью ему приходишься? Мне память не изменяет?
― Да где ж мне теперь с ним управиться? ― Баба негромко зарыдала.
― Непохмеленная, что ли? ― спросил Казарян, глядя в окно. Во дворе девочка, которая совсем недавно была в шубке, копалась лопаткой в снежной луже, кружилась теперь вокруг своей оси, хотела, чтоб вздымался подол легкого платьица.
― Не ты меня поил, не тебе спрашивать, ― басом обиделась баба.
― Ну, тогда извини. Но помни, когда он объявится, звони мне тут же по телефону.
― Кровинушку свою в тюрьму упрятать? Так, что ли?! ― баба постепенно наглела.
― Тогда выбирай. Или кровинушку, или тебя. А то и тебя и кровинушку вместе.
― Да я разве что говорю?
― Говоришь, говоришь! ― Казарян резко поднялся с дивана и локтем зацепил полочки со слониками. Слоны попадали, как на сафари. ― А, черт! Генка Иванюк не заходил?
― Не заходил.
Казарян осторожно расставил слоников по местам. Баба тоже встала, придирчиво поправила салфетку. Ожидала, когда он уйдет.
― Я тебя навещать буду, ― пообещал Казарян.
― Куда от тебя денешься? ― баба открыто радовалась его уходу.
Он распахнул дверь и солнце ударило ему в глаза. Посреди двора продолжала крутиться девочка.
Иванюк-младший с ходу раскололся:
― Вчера вечером приходил. Денег просил.
― Что ж ты мне не позвонил? Мы же договорились, Гена! ― вскричал Казарян. Он вскинул руки, с поднятыми руками походил по богато обставленной иванюковской столовой, изображая огорчение от такой неумелости своего сообщника. Развлекал себя Казарян.
― Я звонил, я сегодня все утро вам звонил, а вас не было! ― Гена стоял, колотя себя кулаком в грудь, гудевшую от ударов.
Казарян уже сидел на стуле, воткнув локти в колени и руками обнимая многодумную голову.
― Что тебе Стручок говорил? ― не поднимая головы, спросил Роман.
― Говорил, что домой ему возвращаться сейчас никак нельзя. Хотел было у бабки пожить, но боится, что там найдут. Пристроился у одних, но там платить надо.
― Где это ― "у одних"?
― Не знаю. Правда, не знаю.
― Ты ему денег дал?
― Дал. Двести рублей.
― Откуда у тебя деньги?
― Мама ко дню рождения подарила. Мне тридцатого восемнадцать лет исполнилось.
― Совершеннолетний ты теперь у нас. Значит, сажать тебя по всей строгости можно.
― Вы все шутите. А мне жить как?!
― Так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы. Так, чтобы мы тебя не сажали. Усек, Геннадий Иванюк?
Геннадий Иванюк усек.
Иванюк-то усек, а Виталий Горохов ― нет. Смешно, но Стручок, как большой, лег на дно. А то пусть его район ищет. Ведь трамвайный грабеж их дело.
― ...Лидия Сергеевна для верности по поводу самсоновского башмачка целый научный симпозиум собирала. Его каблучок. Стоял под сосной Николай Самсонов в тот вечер. С "вальтером" в руках. Так-то, ― как бы не отвечая на романовские вопросы, по сути дела до конца ответил на все Сергей Ларионов.