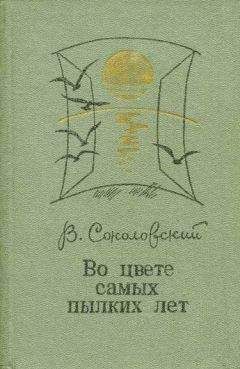На бирже труда к 1 июня было 78 человек демобилизованных. Из них большая часть ходит по полгода и больше.
Льготу, предоставленную демобилизованным постановлением СНК на внеочередное получение работы, при настоящих условиях, когда требования на рабочую силу почти совсем не поступают, использовать нельзя.
Между тем число демобилизованных красноармейцев растет.
И. Баженов
А примерно за месяц до того, как в избе Нюрки Филатенковой был убит агент Яша Зырянов, влажной и ветреной майской ночью в город по вокзальным ступенькам спустился человек. Посередине вокзальной площади он остановился, сдвинул на лоб мятую красноармейскую фуражку, почесал для начала затылок, затем, придав головному убору надлежащее положение, долго вглядывался в темноту, угадывая вдали лежащий перед ним потухший город. Поправил на плече лямку старого тощего мешка и зашагал крепкой походкой знающего свою цель мужчины. Свет станционных фонарей сеялся по выгоревшей на спине гимнастерке. Приезжий был грязен, небрит и устал — потому ни один извозчик не окликнул его.
Есть люди, убежденные, что они крепко стоят на земле. Если такой решится отправиться куда-нибудь, то он делает это с уверенностью, что не потеряется в бестолочи земли или уезда. Уверенность эта — от трудолюбия. Создавая вещи обиходные и необходимые, такие люди немного просят взамен: так, доброго слова да хлеба. Однако в поисках хорошей жизни они, верящие, что все само собой устроится — были бы руки да голова, — уклоняются от активных поступков, плывут по течению, не больно-то обращая внимание на кипящие рядом водоворотики. Главное — найти работу да крышу над головой, а остальное как-нибудь образуется.
Осудим ли мы ближнего? Пожалеем ли? Забьется ли-вдруг в нас тоненькая струночка, пробуждая сердце? Тогда оглянуться бы по сторонам, отыскивая лицо, напоминающее лицо героя, но некогда, некогда, беги — вон отходит твоя электричка, трамвай, катер — быстрее, быстрей… вот, слава богу, зацепился… звонок… пошел!
Историю жизни Николая Серафимовича Малахова, по идее, следовало бы начать с того момента, когда он родился — в деревне такой-то, такого-то уезда, одной из приволжских губерний, в семье крестьянина. Опустив пору детства и отрочества, о которых ничего неизвестно, поставим для отсчета другую веху: гражданскую войну. Сначала она шла мимо Кольки и его односельчан, продолжавших делать то, что положено делать крестьянину от веку: пахать, сеять, жать, молотить, ходить за скотом… Тяжкой была жизнь в крохотной — девять дворов — деревеньке. Отец бил Кольку нещадно, и весной девятнадцатого года, устав от битья и бескормицы, семнадцатилетний Никола ушел из дому, явился в уезд и был приписан к стоящему там красноармейскому полку. Вскоре полк бросили под Оренбург, и Малахов совсем потерял связь с родными местами. Несколько раз писались корявые письма — и самим, и красноармейцами пограмотнее, — но так и не было ни одного ответа. К каким только фронтам, какими поездами и пароходами не уносило его за три оставшихся военных года! Последнее ранение — пулю в предплечье — он получил в бою с белополяками в двадцать втором и, выписавшись из госпиталя, был направлен в гарнизон маленького сибирского городка, где до демобилизации тихо нес караульную службу.
Тогда и пробудилась с новой силой изначально заложенная в нем тяга к простому человеческому труду, и он, зажав сердце в ожидании демобилизации, упросился в полковую столярку, ладить скамейки, столы, мишени и грибки для часовых.
Товарищи и командиры относились к Малахову хорошо, батальонный даже уговаривал остаться на сверхсрочную как красноармейца ладного, трудолюбивого и исполнительного, но Николай был тверд в своих намерениях и демобилизовался, только подошел срок. Его приглашали завхозом в местную больницу; можно было жениться со временем и жить спокойно и уверенно.
Что сорвало его тогда и понесло к родным местам? Тоска по дому? Может быть. Только давно уж не было никакого дома, одни обугленные островки на месте деревни, и — ни одного жителя. Встретилась на дороге нищая старуха и сказала, что сельцо почти полностью вымерло в голодные годы, а потом и сгорело. Оставшиеся подались в хлебные места, и кто знает — живы ли?
Он пошел на погост, поплакал над усеявшими его безымянными крестами и направился в уезд, пыля сапогами. Одна только родная душа держалась теперь в памяти: тетка, отцова сестра, жившая до войны в губернском городе на Урале. И адресок держался с той поры, как надписывали они с отцом посылаемые тетке письма. На поиски ее и предстояло отправиться Малахову после того, как слез он с тормозной площадки попутного товарняка ветреной майской ночью.
В город он, однако, тогда не пошел: углубился в рощицу, извлек из мешка шинель и заночевал.
Наутро, поминутно справляясь у прохожих, двинулся по адресу. Нашел старый деревянный дом на тихой улочке, поднялся на второй этаж и постучал в одну из дверей. Хозяин квартиры — лохматый мужик — долго не мог понять цели малаховского визита и все спрашивал какие-то документы. Наконец, сообразив, в чем дело, объяснил, что тетка Николая здесь давно уже не живет: в гражданскую вышла замуж за пленного чеха и вместе с ним уехала на его родину.
Больше Малахов никуда не поехал. Странствия после демобилизации и так утомили его, а душа рвалась к порядку, крепкому добротному месту. А вообще этот город нравился. Была в нем такая основательность, не искореняемый никакой безработицей соленый трудовой дух.
Николай пошел на биржу, сунул в окошко демобилизационные бумаги: вот, принимайте! Отказали. Однако он, привыкший к строгому порядку, поднажал: «Не положено, товарищи, законы нарушать. Я демобилизованный, вы понимать должны». Развели руками: «Если бы к этим законам еще и работу придумывали, а так — жалуйтесь, ваше право».
С той поры он каждый день приходил на биржу и отмечался в очереди. Она двигалась, конечно, но медленно, незаметно почти. И однажды он подумал: как-то бы по-другому это дело закончить! Решение пришло сразу же: увидав в одном из окошек биржи кудрявую барышню, он почувствовал себя парнем видным и ухватистым и затеял хитрость. Весь день и вечер шатался по городу и нашел-таки старушку, у которой громоздилось на дворе два воза неразделанных дров. Пилил их лучковой пилой, колол целых четыре дня, а когда хозяйка рассчитала (надула, старая!), пошел и первым делом купил кулек конфет «утиные носики», пристроился с ними у окошечка и завел с барышней тонкий и значительный разговор.
Совбарышня конфеты приняла с удовольствием, но проводить не позволила; правда, томно бормотнула на прощание, чтобы оставил заявление — она завтра сходит к начальству, попытает счастья. На другой день он, с утра заявившись на биржу, прошествовал прямо к ее окошечку и уверенно поздоровался. Девушка отложила зеркальце, скользнула по Малахову безразличным взглядом. Он растерялся сначала, но, решив, что имеет дело с женским тактическим приемом, широко улыбнулся и спросил:
— Ну, как там с начальством? Ходила, нет?
— Вам чего, товарищ? — обиженно фыркнула барышня. — Ведь ясно же написано: работы нет. Ходят, ходят…
— Да вы меня разве забыли? — Николай похолодел. — Я вам заявление вчера оставлял.
— Как фамилия? — Порылась в бумагах. — Нет вашего заявления, не знаю!
— А… где же оно тогда? — растерялся Малахов.
— Затрудняюсь сказать. Наверно, его мыши с квасом съели! — Она расхохоталась лиловым, под Мэри Пикфорд, ртом и захлопнула окошко.
Николай отошел, сжимая кулаки.
Ночевал он в пойме реки, в компании бродяг, выползших на берег с наступлением весны. Держался в стороне от них, живущих подаянием, кражами, а то и делами покрупнее, хотя, если угощали, не отказывался. Когда стали выгонять лошадей на траву, он пробрался как-то к табуну и надергал волосьев из конских хвостов, сплел леску и стал удить рыбу. Ее много было в тот год — крупной, голодной. К ночи шел к одному из горевших на берегу костров, пек рыбу, ел сам, угощал случайных знакомых. Спал у костра, завернувшись в шинель. Удил вечером; днем сидел на бирже, ждал работы. Однако долго такой жизнью не протянешь: стал слабеть, начали вянуть мышцы; организм нуждался в мясной пище, и однажды Николай на рынке продал за бесценок шинель. В чайной тут же, на рынке, взял тарелку щей и две порции легкого. Он словно опьянел после еды: стало жарко, клонило в сон, и Малахов, выйдя на улицу, долго стоял, блаженно улыбаясь, привалившись к косяку. Может быть, он и задремал тогда; во всяком случае, он словно очнулся, услыхав совсем рядом: «Браток! Чего стоишь? Помогай! Грабят, не видишь, что ли?»
Николай огляделся: возле угла чайной два молодца заворачивали руки усатому мужчине. Тот отбивался ногами, хрипел, но они молча делали свое дело. «Что же такое, батюшки?» — подумал Малахов. Главное — никого на базаре это, по-видимому, не задевало, как будто так и надо было. Пробовали поодаль гармошку, и драный мужик отплясывал в круге; вертелись и дрыгались куклы на деревянном колесе у безногого инвалида; кричали спекулянты, и, перекрывая всю эту звуковую мешанину, орал скороговоркой граммофон возле маленького балагана: «Нем-ножко лысоватый, но это ничего!..»