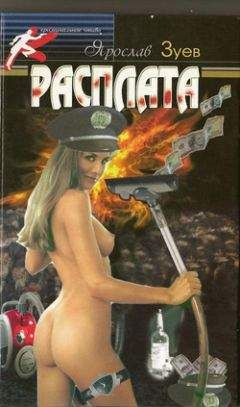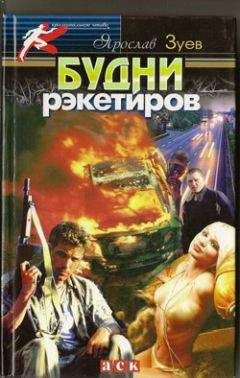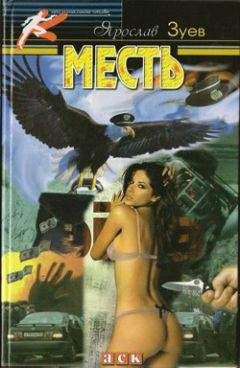– Само собой, Вацлав Збигневович. Кстати, Тома вот-вот подойдет.
– Давай, давай. Проваливай. С Томой я, дружок, без тебя разберусь.
* * *
Как только Жора отправился на поиски стремянки, Боник, сбросив с себя мокрую и грязную одежду, которая, впрочем, успела на нем почти что высохнуть, встал под душ. Сначала он собирался заглянуть в парную, но затем, вспомнив о многострадальной мошонке, отказался от этого намерения, свернув в душевую. Какое удовольствие торчать на лавке, с пустым животом и яйцами, которые, кажется, весят килограмм по пять каждое? Сначала следовало исправить положение и по части еды, и по части секса, а потом парится, если не отпадет желание. Горячая вода помогла ему расслабиться, Боник даже прикрыл глаза, подстав макушку под струю.
Согревшись и снова чувствуя себя человеком, Боник покинул душ и вышел в зал, завернувшись в теплое махровое полотенце. Тамара уже пришла, подобрала и спрятала его грязную одежду и теперь стояла, в своем строгом коричневом платье горничной, украшенном нарядным тщательно накрахмаленным белым передником вроде тех, что в далекой юности Бонифацкого таскали его подружки, как школьница перед экзаменатором. Опустив глаза, Боник посмотрел на ее пухлые коленки с ямочками, и ухмыльнулся.
– Тебе бы Тома, еще банты в прическу вплести, – заметил он доброжелательно. – Будешь точно, как комсомолка.
Наклонившись, она поставила перед ним пару теплых тапок. Тяжелый запах терпких, сладких духов, Боник предположил, что это «Палома Пикассо», приятно защекотал ноздри.
– Если вы хотите, я одену, – приятным грудным голосом сказала Тамара.
– В следующий раз. – Вставив ноги в тапки, он взял ее за плечи.
– Мне раздеться? – спросила горничная.
– Подожди, – остановил ее Бонифацкий. – Давай сначала поедим. Я – голоден как волк.
Он хотел расположиться на лежаке, будто римский патриций, но голод делал свое дело, Боник подсел к столу. Тома присела напротив, чопорно сведя коленки, казавшиеся смуглыми из-за надетых на ноги колготок, а, скорее чулок. Бонифацкий бы поспорил, что на ней – чулки.
– Угощайся, – предложил Бонифацкий, – впереди – ночь длинная, а я тебя именно такой люблю. Похудеть все равно не дам, ты же знаешь.
Она наполнила его тарелку с верхом, как когда-то давно это делала мама, а после мамы, пожалуй, никто, кроме, конечно, Томы. Минут десять Бонифацкий молча работал челюстями, утоляя голод, терзавший желудок. Как только наступило первое насыщение, Боник, отложив в сторону нож и вилку, отодвинулся от стола с бокалом «Мадейры» в руке.
– Вот теперь, пожалуй, пора, – сказал он, – раздевайся.
– Полностью, Вацлав Збигневович?
– Посмотрим. Я тебе скажу, когда остановиться.
Тома сбросила передник, и, аккуратно сложив, повесила на спинку стула. Затем стянула через голову платье, оставшись в полупрозрачной комбинации, стрингах и чулках на поясе. Подобострастно улыбнувшись хозяину, устроила руки на талии и слегка повела бедрами из стороны в сторону. Она, конечно, была тяжеловата, особенно в сравнении с Юлей. Зато, в отличие от этой пацанки, была покорной, как синтетическая кукла из сексшопа. И, одновременно, живой. Мысли Вацлава Збигневовича решительно изменили направление, и он отметил про себя, что хоть, пожалуй, не придумано ничего пошлее и вульгарнее этих самых чулок на поясе, сделавшихся неизменным атрибутом проституток, наверное, с середины девятнадцатого века, если не раньше, а действуют они по-прежнему безотказно. По-крайней мере, на него. Член Боника, постепенно увеличиваясь в размерах, двинулся по часовой стрелке снизу вверх. Бонифацкий поправил полотенце, чтобы оно не мешало движению.
– Теперь лифчик, – хрипло распорядился Боник, подумав мельком, что не даром отстоял Тамару в штате, вопреки Витрякову, который горничную не переносил на дух, упокой, Господи, его мятежно-грешную душу.
«Я, бля, в толк не возьму, ну на х… тебе, б-дь на х… сдалась эта долбанная старая калоша? У нее же через пасть асфальт видно. Да у нее, б-дь на х… ноги не сходятся, как у сломанного циркуля, а Боник?» — пролаял в голове Витряков. Вацлав Збигневович поморщился, так это вышло реально.
«А вот для таких случаев и сдалась, тупой ты, к тому же, дохлый недоумок. Чтобы быть покорной. Чтобы не задавать лишних вопросов, не компостировать мозги, как твоя Юля, которая, кстати, уже не твоя, а моя. Вот для чего, дебил» .
Тамара завела руки за спину и ловко расцепила застежку лифчика. Вещица спланировала на пол. Пока Боник провожал взглядом ее пируэт, женщина подхватила тяжелую грудь ладонями и соединила сосок с соском.
«Любишь ретро, б-дь на х… – донесся из подкорки удаляющейся голос Витрякова. – По кайфу, когда из бабы песок сыплется?»
«Пошел ты, – отмахнулся Боник, глядя на ее тяжелый бюст с двумя большими темными родинками на левой груди, чуть выше соска. – Тебя нет. Ты умер, урод. Вот и вали отсюда на хрен!»
– Теперь трусы, – вымолвил Бонифацкий. – Только не снимай совсем, просто спусти до колен.
Тома беспрекословно подчинилась. Запустила указательные пальцы под резинку, оттянула и потащила вниз. Волосы на лобке, черные и шелковистые, были подстрижены аккуратным язычком. Вацик шагнул к Тамаре, сбросив полотенце, любуясь ее пухлым животом со следами растяжек от беременности. От двух беременностей, насколько он знал. Бонику они нравились, эти растяжки, как и родинки, поскольку с ними Тома казалась особенно натуральной. Она всегда и была такой, настоящей, а не какой-то североамериканской мисс-силикон с глянцевой обложки «Плейбоя», до которой ни рукой не дотянуться, чтобы потрогать, ни умом понять. – « Искусственная грудь, вставные челюсти и рожа под тремя слоями штукатурки, свежая после недавней растяжки», – подумал Боник, разворачивая Тамару спиной к себе и прижимаясь к ней всем телом. Его руки обхватили ее грудь, нежную, как пуховая подушка, которая была у Боника в детстве. Он спрятал лицо в ее каштановых волосах, чувствуя, как тонет в дурманящей сладости духов. Член, стоящий торчком, лег в ложбинку между ее ягодицами.
– Хорошо, – пробормотал Вацлав Збигневович – ох, и хорошо, – и это действительно было так. Тома его не торопила, за годы службы изучив повадки хозяина досконально. Они простояли так некоторое время, потом Боник, очнувшись, велел ей опереться локтями о лежак.
– Стань-ка, детка, вот так.
Тома выполнила и эту команду послушно, как вышколенный солдат.
«Вот за что мы ценим верных старых подруг», – думал Бонифацкий, пристраиваясь поудобнее. Широкие бедра горничной плавно перетекали в талию, линии были округлыми и ласкали взгляд. Тело – теплым и податливым. Сверху Тома немного напоминала классическую гитару, Вацлав Збигневович ухмыльнулся этому сравнению, входя в нее легко, как по маслу. Когда их тела соприкоснулись, ее ягодицы задрожали, словно студень. Тома глухо застонала, Вацлав Збигневович ответил, и неприятности, допекавшие его с утра, куда-то исчезли, испарились с этими животными звуками, которые они издали. Проблемы, донимавшие, как собаку блохи, расступились разом, будто рассеченная форштевнем вода. Боник покинул Тому и снова вошел, наслаждаясь этими восхитительными проникновениями, и думая, как это здорово – никуда не спешить. Затем он легко шлепнул Тамару по ягодице, звук получился сочным, как поцелуй.
* * *
Пока действовали препараты, на которые не поскупился Док, Бандура плавал между землей и небом, ощущая себя то ли космонавтом Леоновым[72] на орбите, то ли рыбой в толще воды. Открывая глаза, он видел слегка размытый потолок своей камеры, но мозг отказывался идентифицировать изображение. Грубая побелка над головой казалась ему то поверхностью Луны с разбросанными то тут, то там зубастыми оскалами кратеров, то бесконечным одеялом из облаков, укутавшим целый континент, то небом, как его видишь, когда смотришь через маску из-под воды.
С его рассудком творилось нечто весьма странное. Были моменты, когда он вообще ничего не понимал, и, пожалуй, не назвал бы собственного имени, если бы его у него спросили. Он осознавал себя просто как некое абстрактное «Я», плавающее в каком-то континууме. В первозданной мгле.
Затем он сумел подумать о Кристине, еще до того, как вспомнил, что его зовут Андреем. И даже попытался ее позвать, непослушными губами, потому что надеялся, будто она услышит и придет. Как уже было совсем недавно, когда она явилась ему вместе со струями весеннего дождя и казалась сама сотканной из этих струй. Ее голос, напоминающий шелест падающих капель воды, произносил какие-то стихи, кажется о том, как они все потеряли просто потому, что не додумались беречь. И он, вероятно, плакал, слушая ее, хоть глаза оставались сухими. Потом Кристина растаяла, вместе с дождем, мысли Андрея унеслись в тоннель подземки, прорытый неизвестно кем и зачем. Он снова думал о Вовчике, появившемся очень кстати, чтобы удержать его, сначала за шиворот, а потом за руку, когда он соскальзывал на перрон. Впрочем, теперь и Вовка куда-то исчез, и Андрей толком не знал, во сне или наяву они виделись. «На руке-то у меня гипс, – с ужасом думал Андрей, подозревая, что, поскольку Вовка, пускай из самых лучших побуждений, тащил его за покалеченную руку, теперь она наверняка снова сломалась, а то и вообще оторвалась. Он пробовал разглядеть, так ли это, ожидая увидеть культю или обрубок кости. К счастью, гипс был на месте, напоминая покореженный оттепелью мартовский сугроб. «Подумать только, – удивился Бандура , – что я стану радоваться гипсу…»