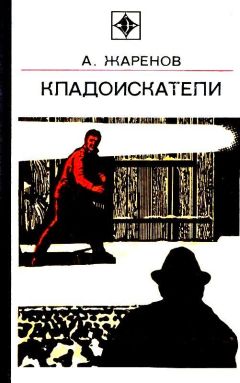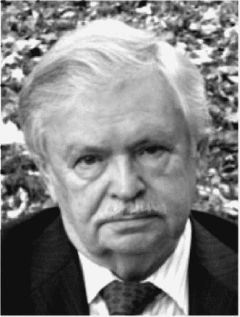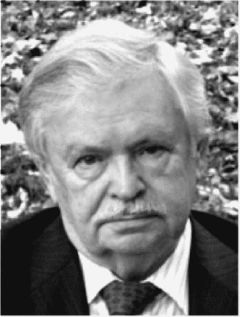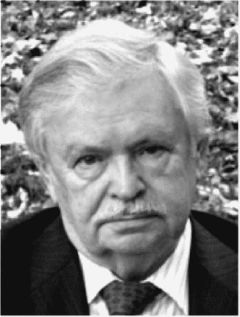А во вторник к Вите пришел я. Валя спряталась за дверью…
Хлюпик Витя начал болтать…
Но Валя-то вылеплена из другого теста…
Если подумать…
А потом она выдумала звонок из милиции. Ей хотелось определиться, узнать, как мы относимся к альбому, который она унесла из мастерской…
Время? Может быть, ей повезло — попалось такси…
И за мной следила она…
Зачем только?
Скорее всего мне просто померещилась слежка. Ведь потом не было прецедентов…
Стройная схема вырисовывалась, четкая, как чертеж. Только вот Лира никак не укладывалась в нее. Ни в эту схему, ни в другие. Недаром Лаврухин глаз не спускал с фотографии этой женщины.
А версия? Что ж, версия требовала разработки.
Я открыл дверь, пропустил Лиру Федоровну вперед, и мы вошли в квартиру, где все дышало нежилью и запустением. Пахло пылью. Пыль лежала на полу, на столе, на приземистом буфете, на стульях. Женщина зябко передернула плечами и быстро прошла через комнату к окну. Я заглянул в кухню: там все было так, как и много дней назад. Плита была закрыта газетой, на маленьком столике валялся заплесневевший кусок хлеба.
Лира Федоровна отвернулась от окна и сказала:
— Вам не следовало этого делать. Господи, зачем я согласилась прийти сюда…
Голос ее дрожал, а в синих глазах… Нет, не знаю, что я увидел в синих глазах… Только не слезы. Но мерзость запустения подействовала на женщину.
— Это вызвано необходимостью, — сказал я. — Здесь, как вы видите, все оставлено так, как было. Вещи на прежних местах, ничто не потревожено, ничто не унесено, кроме нескольких предметов, которые были нужны следствию. Посмотрите внимательно: нет ли в квартире чего-нибудь такого, чего, скажем, не было тогда, когда вы уезжали. Не появились ли тут новые вещи, не исчезло ли что-нибудь.
Привел-то я ее сюда с другой целью, но знать ей это было необязательно. Мне нужно было порасспросить Лиру Федоровну кое о чем, и сделать это лучше всего было здесь, в астаховской квартире.
— Пыль, — сказала она. — Мне теперь будет сниться эта пыль…
— Он сам убирал квартиру? — спросил я.
— Он ничего не умел… Ничего такого…
— Кто же мыл полы? Вы?
— Я.
— А до вас?
— Он платил какой-то женщине из соседнего подъезда. Я не знаю ее…
— Осмотрите, пожалуйста, все… Загляните в шкаф…
Она нерешительно потянула дверцу, а я задумался о женщине из соседнего подъезда… Вот ведь как… Надо было увидеть пыль, чтобы додуматься до вопросов, которые никому из нас в свое время не пришли в голову. Пыль… Пыль… И он не умел ничего такого… Но ты-то, Зыкин, подкован на этот счет… Ты знаешь, что пыль копится быстро. А Лира Федоровна ушла от Астахова за неделю до отъезда в Крым… Пыль… Пыли не было в квартире, когда ты, Зыкин, впервые вошел в нее… Так, еще одна недоработка… Женщина из соседнего подъезда.
Лира Федоровна закрыла шкаф.
— Я хочу уйти, — сказала она. — Неужели вы не понимаете…
— Мы еще не закончили осмотр.
— Но это же ужасно…
— Ужасы остались позади, — заметил я флегматично. — Вы не оставили намерения уехать из Заозерска?
В синих глазах мелькнуло удивление.
— Нет.
— Давайте присядем на минутку, — предложил я, смахнув пыль со стульев астаховским пиджаком. — Вы и сейчас уверены, что ваш муж поступил… Ну, скажем, некрасиво…
— Не знаю, — сказала она, оправляя платье на коленях. — Поздно об этом говорить.
— Мы нашли то, что искал ваш муж…
— А что он искал? — спросила она равнодушно. — Клад?
— Нет. Клад искали другие. Вот он, например.
Я кивнул на кровать. Она не повернула головы, не изменилась в лице. Казалось, эта тема ее вовсе не занимала. Но Вале она об этом разговоре расскажет. И вот тогда-то может что-нибудь произойти…
— У вас нет желания встретиться с мужем?
— Нет.
— Мне кажется, что вы никогда не придавали серьезного значения анонимкам.
— Это упрек?
— Нет, вопрос. Почему вы не захотели объясниться с мужем?
— Можно мне не отвечать?
— Как хотите, — сказал я, подумав, что вот сейчас можно неназойливо, как бы между прочим сообщить Лире Федоровне, что следствие близится к концу, только обстоятельства сложились так, что… В прошлом году, например, нам пришлось закрыть дело потому, что преступник погиб под машиной в тот день, когда его собирались арестовать. Преступление замкнулось, так сказать, само на себя, и судить стало практически некого. Я намеревался рассказать еще о некоторых любопытных случаях, а потом туманно, как бы невзначай, не сообщая ничего конкретного, намекнуть Лире на нечто, намекнуть так, чтобы она могла сделать определенные выводы. Короче говоря, я собирался дать понять Лире, что и она и Валя вне подозрений… А потом… Потом посмотреть, как они поведут себя.
Но момент наступил, а я им не воспользовался. В голосе Лиры Федоровны я уловил какие-то новые нотки… Словно на миг что-то приоткрылось передо мной. И это «что-то» заставило меня забыть о прежних намерениях. Надо было срочно проверить то, что возникло в ощущении, а потом оформилось в четкую мысль.
— Как хотите, — повторил я. — Если вам трудно…
— Муж не пожелал объясниться. Я расценила его молчание как признание вины.
— Это понятно. Но сначала были анонимки…
— К чему сейчас сотрясать воздух. Анонимщик не достиг цели.
Она думала о Сикорском. Или предлагала мне подумать о нем. Но если бы автором писем был Сикорский, то после отъезда Наумова он должен был, так сказать, активизироваться. Этого не произошло. Директор музея не предпринимал попыток к сближению ни до разрыва Лиры с мужем, ни после. Не было смысла ему затевать этот спектакль.
— Может быть, цель и была в том, чтобы поссорить вас с мужем?
— Это глупо, — рассердилась она. — То, что вы говорите, — глупо…
— Почему?
— Просто глупо — и все.
Это было уже нечто. Нет, это было совсем не глупо — то, что я говорил и о чем она думала. Думала сейчас и думала тогда… Если бы она об этом не думала, она не сказала бы, что это глупо.
— Ваша мать, — поинтересовался я, — она одобряла ваш брак с Наумовым?
Синие глаза широко распахнулись.
— Вот как, — протянула она изумленно.
— Одобряла или нет?
— Я… Нет… Я не понимаю.
— А мне думается, что вы знали это всегда…
— Что я знала?
Я поднялся со стула и стал разглядывать часы, висящие на стене. Часы были старинные, в черном футляре и с латунным маятником. Маятник не качался, стрелки показывали четверть двенадцатого. Я открыл застекленную дверцу и качнул маятник. Уголком глаза я следил за Лирой Федоровной. Она с минуту сидела неподвижно, затем встала и подошла к зеркалу. Поправила волосы, помедлила и сказала не то мне, не то своему отражению:
— Неужели я знала это всегда?
— Разве не так? — спросил я.
— Нет, — сказала она, продолжая смотреть в зеркало. — Нет, конечно. Как я могла знать то, чего не было…
Она словно убеждала себя в чем-то. А я стоял перед часами и пытался сообразить, что к чему. Ну хорошо: Тамара Михайловна не одобряла брак дочери. А что же дальше? Лира… Все нам о ней известно, начиная от момента рождения и кончая сегодняшним днем. Все или почти все. И однако, чего-то не хватает.
— Мать никогда не намекала вам, что зять ей неприятен?
— Господи, какая чепуха, — вздохнула она. — Нет… Нет… И нет.
А в моих ушах звенело: да, да, да… Но темны были эти «да», как лес ночью. Незнакомый лес. И чувствовал я, что вывести из этой чащобы меня Лира Федоровна не сможет. Даже если бы и захотела.
Самому надо было искать дорогу.
И все же не зря мы немножко подышали пылью. Вспомнила Лира Федоровна один любопытный эпизод не эпизод, но что-то вроде. Разговор у нее с Астаховым занятный состоялся недели за три до отъезда в Крым. Сидели они в том самом стеклянном кафе «Космос», на Театральной площади. Веселый весенний дождь хлестал по стеклам, но настроение у Лиры было муторное. В ожидании официантки (кафе по вечерам переходило на ресторанный режим) Астахов о чем-то болтал. Лира не слушала его, делала из бумажной салфетки голубя и думала о своей неустроенной, какой-то неуютной жизни. Работа в музее не приносила удовлетворения, квартиры не было, а главное — не было цели. Что-то сломалось в ней после разрыва с мужем и ухода из семьи. Почувствовала она это не сразу. Сначала казалось, что все еще образуется, что кто-то подойдет к ней, возьмет за руку и выведет из тумана. Кандидатом в поводыри был Сикорский, но она испытывала к нему какое-то странное чувство, которое не могла объяснить себе. Оно не было антипатией. Может быть, она и пошла бы к нему, если бы он был порешительнее. Может быть… Однако он молчал, и она не могла понять почему. Он был мягок с ней, заботлив — и только. Шумный, веселый Астахов, появившись в музее, как-то сразу привлек к себе ее внимание. Через месяц она поняла, что ошиблась. Ей стало страшно. Ей было уже тридцать четыре. И в тридцать четыре у нее не было ни семьи, ни квартиры, ни любви. Красивая бездомная кошка — и все. Но красота преходяща, а жизнь может оказаться длинной — и это тоже было страшно.