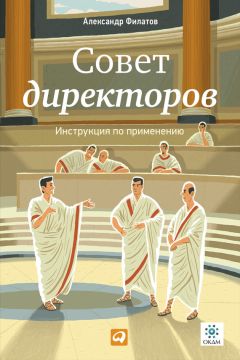Но все когда-то кончается. И моя вольная куйбышевская жизнь тоже однажды закончилась. Я сидел на подоконнике и смотрел на прохожих. И вдруг не поверил глазам: по улице, как ни в чем не бывало, вышагивал дед. Я так закричал, что качнулись верхушки лип. В ту же секунду я выпрыгнул из окна (к счастью, мы жили на первом) и радостно кинулся ему в объятия. Мне и по сей день кажется, что, не заметь я его тогда, он бы равнодушно прошел мимо.
Дед увез меня обратно в Ульяновск, так и не зайдя в квартиру и не поговорив с отцом. Впрочем, в этом не было необходимости. Его все равно не было дома, а все мое, тенниска, шорты и сандалии на босу ногу, было на мне. С тех пор я отца больше не видел.
И слава богу! Поскольку в нем я абсолютно не нуждался. Позже у меня был отчим. Никакой особой радости от его появления я не испытывал, как, впрочем, и досады, хотя моя личность в глазах матери как-то резко поблекла и отодвинулась на второй план. Не знаю, возлюбила ли она его, как самое себя, но все внимание теперь уделялось исключительно этому чужому дяденьке. Все лучшие куски доставались ему, а на меня была взвалена самая грязная домашняя работа. По дому отчим принципиально ничего не делал. Целыми днями он валялся на диване, на котором раньше валялся я, и почитывал газеты. Когда матери не было дома, он жарил мясо, а потом бесшумно ел со сковородки, прикрываясь газетой, чтобы я не видел. Но мог и не прикрываться: к мясу я был равнодушен, как, впрочем, и ко всем удовольствиям, связанным с чревоугодием.
Мне вообще было не свойственно чувство обиды. Мне все было прекрасно. Мне всегда и везде и со всеми было уютно и весело. Я не испытывал никакого ущемления от того, что моей персоне не оказывали должного внимания. Черт с ним, со вниманием! Жизнь и без внимания прекрасна!
С отчимом мать рассталась через пять лет. Нельзя сказать, что с его уходом я ощутил какую-то утрату. Более того, я, кажется, испытал радость, несмотря на то что он забрал магнитофон и мопед. Так что слово «отец» для меня, скорее, что-то чужеродное, нежели родное. Без мужчины в доме я чувствовал себя даже более комфортно, чем с оным. А вот без матери в детстве мне приходилось туго.
Все мое детство можно разделить на два этапа. Первый — это вечное опасение, что отец выпорет ремнем, второй — это вечное ожидание матери.
После того как дед привез меня в Ульяновск (и то только потому, что мне нужно было в школу), мать определила меня в школу-интернат.
Я ждал её по средам, когда был родительский день. Ждал со страхом, потому что на меня жаловались. Я был очень энергичным и подвижным. Почему-то мое бурное проявление жизнерадостности воспитатели воспринимали как хулиганство. Сколько себя помню, я всегда стоял в углу и ковырял штукатурку, пытаясь таким образом изобразить на стене что-либо художественное. За это меня наказывали ещё круче: ставили на всю ночь в коридор или лишали ужина. И к тому и другому я относился с английским спокойствием. Что делать? Искусство требует жертв!
На выходные меня забирали домой. Если за мной приходил дед, это был праздник. Все, что ему высказывали относительно моего поведения, он пропускал мимо ушей. Мать же меня отчитывала, награждала затрещинами и в наказание запрещала смотреть телевизор. Но сердилась недолго. Кормила и выпроваживала на улицу. Затем запирала дом и уходила, напомнив, что скоро должен прийти дед. Но дед приходил не скоро. После вечерни он любил забрести к какой-нибудь старушке, а я бегал по сугробам с деревянным автоматом и расстреливал врагов. Ближе к полуночи, когда почти все враги были перестреляны, мне становилось немного тоскливо. Окна нашего дома по-прежнему оставались черными, а ноги и руки уже порядком заледенели. Но тоскливо было не от мороза, а от одиночества. Я смотрел на луну, и мне казалось, что я один на всем свете. Однако в отчаяние не впадал, ибо всегда выходила какая-нибудь соседка и, костеря мою матушку, брала к себе в дом. Соседи давали мне карандаш с бумагой, и я рисовал. Насколько себя помню, я всегда рисовал в ожидании мамы…
Из дневника следователя В. А. Сорокина
29 августа 2000 года
Конфликт между «Симбир-Фармом» и Красногорским заводом лекарственных средств мне ещё до конца не понятен. В частности, нет полной ясности в том, на каких условиях красногорцы согласились замять этот инцидент с КамАЗом и замяли ли вообще. Думаю, об этом станет известно после допроса Мордвинова и Самойлова, сотрудников Красногорского завода, приезжавших разбираться по этому делу. Они оба задержаны московской милицией и уже дают показания. Словом, я жду результатов.
Что касается Рогова, которого преступник зарубил первым, а это явное свидетельство того, что убийца охотился именно за ним, то его портрет в глазах подчиненных выглядит не очень симпатичным. У большинства допрошенных убийство их начальника не вызвало особого недоумения. Многие предполагали, что именно этим и закончится его карьера. Махинация с КамАЗом также никого не удивила. По словам работников «Симбир-Фарма», для их шефа подобный инцидент — это вполне заурядный случай. Рогов никогда не упускал возможности прихватить то, что плохо лежало. В большинстве случаев это сходило ему с рук. Но красногорцы оказались упорными. Они «наехали» на Рогова так энергично, что для него, как свидетельствует начальник службы охраны, это было полной неожиданностью. Поэтому он так быстро и пошел на попятную, распорядившись оформить сделку документально.
Я ознакомился с договором и платежами. По документам, деньги за товар были перечислены 27 июля, но, возможно, красногорцы потребовали возмещения убытков.
Не удивило сотрудников фирмы и убийство водителя Петрова. По их словам, он — любимчик Рогова и поэтому в фирме на особом положении. Работает Петров с самого основания АО, и они вместе с шефом обделывали кое-какие темные делишки. Подробности ещё не выяснены. Единственный, кто вызывал недоумение, — это Клокин. С ним Рогов не был в панибратских отношениях.
С Клокиным — полная неясность. Он уже больше двух недель числится в официальном отпуске. Его секретарь уверяет, что Клокин за границей. Во всяком случае, собирался. Там уже якобы отдыхает его семья.
Удалось мне поговорить и с женой Рогова. По её словам, в день убийства муж вышел из дому в семь утра, хотя обычно выходил в восемь. Его у дома уже ждала машина. Ровно в девять Рогов появился в фирме. Пробыл в ней не более пяти минут. Подписал четыре договора на поставку медоборудования и ушел, приказав бухгалтеру оформить двухдневную командировку ему и Петрову. По словам секретаря, он был необычайно возбужден и очень спешил. Водитель Петров тоже заходил в офис выпить минеральной воды. Клокина никто не видел.
На этом пока все. Свою версию я изложу после того, как придут результаты допроса Мордвинова и Самойлова. В данный момент пребываю в ожидании.
Я взял ручку и записал в дневнике: «Искусство — это всегда ожидание чего-то…» Немного подумав, я зачеркнул «чего-то» и написал «любимого человека». Все великие вещи написаны в ожидании любимого человека. Болдинская осень Пушкина — это ожидание встречи с Натали…
За окном уже стемнело. На небе высыпали звезды. В черном стекле, кроме настольной лампы, отражался мой унылый силуэт. Я снова не замечаю звезды, а вижу только себя. Зрелище не доставляет удовольствия. Мне уже сорок два. «Я больше никогда не возьму в руки кисть, не потому, что я больше её не достоин, а потому, что мне больше некого ожидать…» — написал я в дневнике.
Я поднялся и поставил на плиту чайник. После чего через силу залез в холодильник, достал масло и кусок сыра. Без всякого желания я сделал себе бутерброд и насыпал в чашку заварки. Есть совершенно не хотелось, как, впрочем, уже не хотелось и вообще ничего. Когда говорят, что, несмотря ни на что, нужно продолжать жить, губы мои расползаются в улыбке. От нашего желания продолжение жизни не зависит. Жизнь идет сама по себе, точнее, катится. Причем все больше по инерции.
Итак, мой художественный дар стал проявляться ещё в раннем детстве. Я всегда ожидал прихода матери то в интернате, то в больнице, то у соседей, то в пионерском лагере. Рисовал, чтобы убить время. И все мне задавали один и тот же вопрос: «Кто тебя учил рисовать?»
Я пожимал плечами и напрягал лоб. Рисовать меня никто не учил. Это я помню хорошо. Прежде всего, потому что моим близким было не до меня. Рожденный для утешения родителей и не выполнивший свою миссию, обязан доставлять отцу и матери как можно меньше хлопот. Я это чувствовал, но хлопоты со мной возникали, прежде всего из-за моей подвижности. Меня наказывали за все, даже за то, за что впоследствии хвалили. В первую очередь — за рисование.