Ладони вспотели, и он поминутно вытирал их о брюки, а ноги почему-то начали мерзнуть, как будто по полу нестерпимо тянуло ледяным сквозняком.
Зачитывали какие-то бумаги, — с точки зрения Манакова, совершенно никчемные, — но его адвокат довольно кивал лысоватой головой, с зачесанными поперек плеши волосами, тщательно записывая нужные места в блокнот. Бездумно следя глазами за быстрым бегом его шариковой ручки по листу, Виталий вдруг почувствовал, что все происходящее отчего-то перестало волновать его — не потеют больше ладони, не мерзнут пальцы на ногах, ушла противная дрожь из тела, перестали навертываться на глаза слезы жалости к себе. Перегорел?
Судья вела заседание в бодром темпе, словно очень торопилась поскорее отправить Манакова в отдаленные места и освободить себя, присутствующих в зале и огромный город за его стенами от преступившего закон человека, нарушившего нормы, установленные другими людьми, как будто заранее предугадавшими, что родится на свет Виталий, повстречает на своем жизненном пути Анатолия Терентьевича Зозулю и поддастся соблазну сорвать куш на незаконных операциях с валютой.
Речь прокурора, представлявшего обвинение, была краткой. Говорил он высоким, звонким голосом, сохраняя на лице выражение любимца учителей, всегда получающего одни пятерки и твердо вызубрившего заданный на сегодня урок. Глядя поверх голов сидящих в зале, он попросил суд назначить Манакову срок в пять лет лишения свободы.
Виталий отвечал на вопросы, особо не задумываясь над тем, как он выглядит и что говорит, правильно отвечает или делает себе только хуже. Допросили свидетелей, зачитали характеристики и объявили перерыв. Сестра рванулась к барьерчику, отделившему брата от свободных людей, и милосердные конвоиры дали ей возможность перекинуться с Виталием несколькими ничего не значащими фразами.
После перерыва заседали долго — выступал адвокат, просивший суд о снисхождении и учете положительных характеристик подсудимого. Он проникновенно говорил о целях и задачах уголовного наказания, должного помочь осужденному осознать вину и твердо встать на путь исправления.
Судья слушала адвоката с непроницаемым лицом; отставник-заседатель морщился, как от зубной боли, и слегка массировал кончиками пальцев левую сторону груди. Молоденькая заседательница прижимала ладони к щекам, и видно было, что ей тоже хочется что-то сказать, но она никак не решается.
Прокурор иронично улыбался, а сестра, по-прежнему сидевшая в первом ряду, внимала адвокату с видом неофита, слушающего проповедь обожаемого пророка, и согласно кивала при каждом патетическом пассаже. У Виталия создалось впечатление, что защитник выступает специально для нанявшей его сестры, честно отрабатывая гонорар, но не веря в действенность своих слов.
Суд удалился на совещание, и Манаков почувствовал себя жутко усталым и вконец опустошенным. Хотелось только одного — скорее бы все кончилось!
Приговор слушали стоя.
— Именем Российской Советской Федеративной Республики…
До чего же противный голос у судьи. Отчего она теперь совершенно перестала торопиться, хотя за окнами уже синеет вечер и нормальные люди заканчивают рабочий день? Тянет и тянет слова, будто пережевывает жвачку, стремясь отдалить момент, когда произнесет:
— …к четырем годам лишения свободы…
— Виталик! — Сестра зарыдала и начала биться в истерике.
Манаков закаменел. В голове вертелись цифры: он пытался сосчитать, сколько же это будет дней, но никак не получалось — мешало нечто непонятное, все время отбрасывавшее его назад, к словам «четыре года лишения свободы». Полторы тысячи дней? Нет, кажется, больше. Правда, должны учесть отсидку в предвариловке, как сокамерники именовали следственный изолятор. Однако все равно ой как долго придется жить за проволокой, где свои законы и понятия о целях и задачах наказания, совершенно отличные от писанных на бумаге людьми, никогда не хлебавшими тюремной баланды…
Этап для отправки в колонию общего режима собрали на удивление быстро. Очередной медосмотр, и вот поздно вечером Манакова вывели и под конвоем доставили из пересылки на глухой, скрытый от посторонних глаз перрончик железнодорожного узла на Красной Пресне. Там уже ждали спецвагон и другой конвой. Вагон прицепили к нужному поезду, тянувшемуся по забитым составами путям ближе к Уральским горам, и осужденный Виталий Николаевич Манаков поехал к месту отбывания наказания, определенного ему народным судом.
Дорогой оказавшийся с ним в одной клетушке старый бродяга-алкоголик делился воспоминаниями об ЛТП, в которых ему довелось побывать «на лечении».
— Худо, — показывая в жалкой улыбке синеватые беззубые десны, доверительно жаловался он Виталию. — Водочки знаешь как хочется? Аж скулы сводит и дрожишь. А тебя обыскивают, жратву, какая от родни передана, силком отбирают. Голодно. Работаешь частенько по двенадцать часов, а только заерепенился, попробовал права качать, так вогнали насильно двадцать кубиков сульфазина — и «задеревенел». Не приведи господь так лечиться. Выходных, почитай, и не бывало, а вечером, того и гляди, на «продленку» погонят, то бишь на сверхурочные. Но денежек, какие ты заработал, если начальство прижало задницей картотеку и сидит на ней, и не думай потом получить!
— Но там же не тюрьма? — удивился Манаков.
— Не тюрьма, — горестно вздохнув, согласился бродяга, — однако иные ЛТП похуже будут, чем крытки.
— Чего? — не понял Виталий.
— Крытка, тюрьма значит, — с усмешкой пояснил невольный попутчик. — Ты лучше скажи, чего делать умеешь? Без рукоделия, парень, в зоне худо. Я вот, к примеру, раньше художником по металлу был, потому надеюсь и там нормально пристроиться. Чеканку отобью для клуба или начальника отряда, замполиту помогу портретики окантовать, оформить чего, стенгазетки нарисую на три года вперед. За это мене пачка чайку перепадет, сигареток дадут. Другие, кто в механике силен, машины ремонтируют начальству или другую пользу приносят.
— Ничего не умею, — отвернулся к решетке двери Манаков.
— Худо, — опять вздохнул бродяга, устраиваясь подремать. — Ломать тебя станут, парень…
В зоне опять медосмотр и неизбежный изолятор — для карантина. Холодно, голые, давно не крашенные стены, остывший суп из несвежего, вонючего сала, который хочется выплеснуть в парашу, но приходится есть, чтобы не потерять силы. Изучение правил внутреннего распорядка учреждения, тоска, бессонные ночи, заглядывающие в узкое зарешеченное оконце чужие колющие звезды на темном небе и отдаленный злобный лай сторожевых собак.
Через десять дней он попал в отряд, получил место на двухъярусных нарах и «прописку» — ночью потихоньку вставили между пальцев ног скрученные жгутиками бумажки и подожгли, устраивая новичку «велосипед».
Вскоре его зачислили в разряд «мужиков», покорно тянущих лямку и не примыкающих ни к активу — группе осужденных, входивших в секцию профилактики правопорядка, ни к верховодившим в отряде «культурным мальчикам» — крепким ребятам, с накачанными мышцами, исповедовавшим культ грубой физической силы. Все теплые места — в каптерке, банщиком, нарядчиком — были захвачены ими, и зачастую офицеры прислушивались к мнению этой группы, своими методами помогавшей им держать отряд в повиновении. И вообще, отрядные офицеры с осужденными старались почти не общаться, опираясь на бригадиров и завхозов. Не общались до тех пор, пока осужденный не совершит проступка, а тогда, в наказание, шизо — штрафной изолятор, или ПКТ — помещение камерного типа. Близкие к начальству не забывали выдвинуть себя на доску передовиков, что казалось Манакову жутким извращением и кощунством — зона, осуждение и вдруг Доска почета? — внести свои фамилии в список на поощрение, получение разрешений на свидания.
Посылки, приходившие от сестры, как правило, отбирали «мальчики», но Виталий не старался что-либо утаить и не пытался вступить с ними в конфликт — он видел, как опускают ночью непокорных, ломают их, заставляют выполнять норму за себя, принуждают к гомосексуализму. Однако нервы начали сдавать, и он понимал, что может не выдержать, сорваться, и тогда неизвестно, как повернется дальше судьба. Что же делать?
Оставалась единственная надежда на сестру — она может уговорить, умастить своего муженька, а у того есть связи и знакомства с нужными людьми, они должны и могут хоть чем-то помочь — перевести на хорошее место, замолвить слово перед начальством. Но как дать знать сестре, как попросить ее о помощи?
Начинаешь в редкие свободные минуты писать письма, а карандаш вертится в пальцах и в голове неотступно сидит мысль о том, что все твои послания пройдут через чужие руки, их прочтут чужие глаза, да и скажешь ли все в письме? Получить свидание? Практически несбыточная мечта.
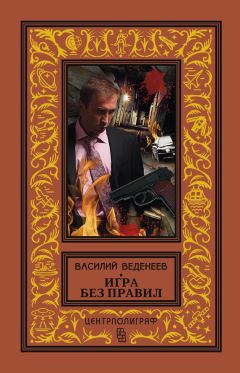

![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)


