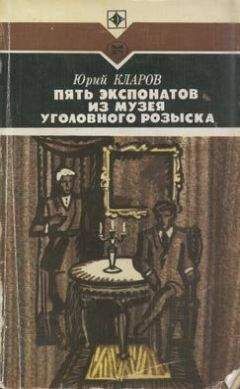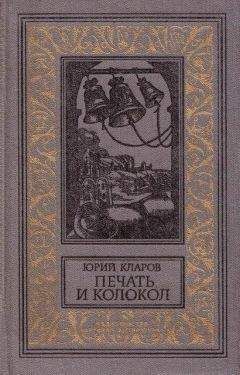На заводе меня принимают в комсомол, а через два месяца по ходатайству комитета комсомола завода переводят в бригаду слесарей-инструментальщиков. И не учеником, мне присваивают второй разряд. «До того я стал хорошим — сам себя не узнавал!» — вроде бы так писала Барто.
Однако все сильнее и сильнее у меня возникает желание взбунтоваться. Мне кажется, что Светлана неведомым способом меня напрягает, заводит, и я от этого верчусь. А вдруг она выбирает не мои обороты, не ту частоту вращения? А может, я сам по своей воле кружусь? У меня же многое получается. Но от этих всех побед я не получаю никакого удовольствия. Нет смака!
«Все, хватит! — говорю я себе. — Надо кончать с этим правильным образом жизни. Баста!» Бог ты мой, отчего же я такой родился! Все время меня, как медведя, кто-то держит на цепи. Света думает, что поняла мою суть, или считает, что поняла, и вот совершенствует меня. Она желает мне добра, желает видеть меня хорошим. А мне тошно. Я нервничаю и раздражаюсь. Домашним и Свете с каждым днем со мной все труднее и труднее.
А тут еще мои новые кореша посчитали необходимым со мной разобраться.
Как-то выхожу я из проходной и вижу: стоит троица. Мирон говорит:
— Давно не виделись, Ген. Пошли, прогуляемся.
— Опять водку, что ли, пить? — спрашиваю я.
— Комсомольцам мы не ставим, — с издевкой отвечает Федор.
А Слава становится за моей спиной и, подталкивая меня своей огромной лапищей, бубнит:
— Ну, пошел, пошел, чего стоять-то зря.
Мы переходим улицу и заходим во двор, заваленный строительным мусором. Кроме вспугнутых нами кошек, здесь никого не видно. Уныло, пустыми глазницами смотрят окна. А из раскуроченных дверных проемов тянет мертвой сыростью.
Внезапно я получаю сзади мощный удар Славы и лечу в сторону Мирона, тот бьет меня в солнечное сплетение. Затем я нарываюсь лицом на кулак Федора и падаю в снег.
— Стоп, мужики, лежачих не бьют, — слышу я голос Мирона.
Я чуть приподнимаюсь на локтях и утыкаюсь в три пары грязных, разношенных ботинок. Взгляд мой скользит выше, по мятым, потрепанным брюкам. Я встаю на одно колено и вижу телогрейку, два стареньких демисезонных полупальто и, наконец, смеющиеся рожи. Миг, и я, оттолкнувшись от земли всеми четырьмя конечностями, выпрыгиваю из окружения.
— Заплутался ты, Генк, — хохочет Федор. — Заплутался!
— Кончайте ржать, суки рваные! — кричу я.
А они еще громче заливаются, аж заходятся от смеха. Плохо это или хорошо, но только все еще сидит во мне старое, воровское. Я выхватываю из кармана нож-прыгунок и давлю, где следует. Щелкнув, выскакивает лезвие, и мои кореша тут же стихают. Щелчок этот доходит до них сразу, словно я не пружину ножа-прыгунка нажимаю, а какие-то кнопки в них самих. Я знаю, что все они деревенские, но, видно, в Москве уже пообвыклись, и им стали не в новинку разные звуки и щелчки, какие можно услышать в закоулках города; и этот негромкий коротенький щелчок многое им сообщает обо мне, и они пятятся.
— Объясните, в чем дело? — уверенно и спокойно спрашиваю я и убираю нож в карман.
— Мать мне написала: неужто, сынок, ты все еще подсобный на заводе? — говорит Федор. — А я ей отписал: нет, мама, я уже не подсобный, я теперь слесарь-инструментальщик. Это такая специальность, с которой нигде не пропадешь. А написал я так, потому что меня пообещал перевести в инструментальщики сам начальник цеха. Но никаким инструментальщиком я не стал, а как был подсобным, так и остался. Им стал ты.
— Ты дорогу Федьке перебежал! А еще плакался перед нами, хорек вонючий, сиротой казанской прикидывался, — набрасывается на меня Слава.
— Это тебя Игорь Николаевич за простака держит. А я сразу понял, что ты не тот, за кого себя выдаешь, — поддакивает Славке Мирон. — Но хоть что-то человеческое в тебе есть? — И, не дождавшись моего ответа, завершает: — Ладно, не будем политпросветом заниматься. Мало мы тебе дали. Но мы памятливые.
Я отворачиваюсь от троицы и молча иду со двора.
«Суки, — думаю я про себя. — А хрен им! Что я, собственно, виляю? Все, что я делаю, все правильно!»
Однако настроение у меня после этой встречи не лучшее. И дома, когда отец с матерью начинают выяснять, откуда у меня на лице синяки, я в ответ рычу:
— Есть синяки, нет синяков на моей физии — мое дело! Я взрослый человек. И какая у меня судьба есть, такая и есть. И без вас у меня хватает бед и прочих обстоятельств.
Расходимся мы по разным комнатам, стыдясь друг друга.
Между мной и родителями вырастает мертвящая глухая стена. К тому же наш инцидент, как метастазы, расползается по всему дому и куда-то уходят из него семейная теплота, нежность и веселье. Родители и братья начинают сторониться не только меня, как прокаженного, но и друг друга. Все становятся раздражительными.
Однажды утром я слышу крик матери:
— Ты меня ненавидишь! Ты жесток со мной!
— Шура, с чего это ты вдруг разошлась? Успокойся, — раздается голос отца.
— Сколько я могу терпеть?! — визжит мать. — Что за привычка у тебя разбрасывать всюду грязную одежду? И ребята с тебя берут пример. Ты это делаешь нарочно!
Все заканчивается ее рыданиями и громким стуком двери уходящего на работу бати.
Я избегаю их обоих. Больше я избегаю отца. Он и раньше не сюсюкался ни со мной, ни с братьями, но он был открыт, доступен, всегда вникал в суть наших ребячьих проблем. А нынешние его сухие нравоучительные беседы можно соотнести лишь с надписями на стенах и столбах: «Стой! Высокое напряжение!», «Курить — здоровью вредить», «Пьянству — бой!». При этом лицо его серо и неподвижно. Когда батя дома, Валера с Володей сами прекращают игры и смолкают.
Во время обеда отец, как и прежде, сидит во главе стола, и мать продолжает подавать ему первому тарелки с едой. И он, как всегда, рассказывает о своем прошедшем рабочем дне. Но теперь то, что он говорит, никому не интересно. После обеда батя устраивается на диване, обложившись книгами и газетами, и делает вид, что читает.
Мне до боли жалко отца. Куда делся командир с зычным голосом, решительный и быстрый, как молния, певун, танцор и весельчак, верящий в меня и мгновенно протягивающий мне руку помощи. Поднимается во мне нежность и к матери, убирающей со стола.
Однако вскоре возникает дело, которое начинает жечь мою душу, вызывает во мне страсть, одержимость. Все остальное перед ним блекнет. Мне кажется, что наступает мой час.
Он появляется в цехе совершенно неожиданно. Ему уже под сорок. На нем пальто с поясом и фетровые белые сапоги — бурки. Такие сапоги обычно носят руководители на периферии. Голова несколько откинута назад. Он подходит к моему верстаку и спрашивает:
— Вы Геннадий Якушин?
— Да, — отвечаю я. — А в чем дело?
— Мне вас рекомендовал мой знакомый, присутствовавший на новогоднем концерте в заводском клубе. Ваше выступление ему очень понравилось, — говорит он. — Я Аркадий Ефимович Тонников — актер. [116] Я из Тара, что на слиянии рек Иртыша и Тара. Хочу для начала в Москве организовать при заводе театральную студию. Вас не затруднит зайти после смены в клуб?
— Зайти в клуб не проблема, — усмехаюсь я, — но мне кажется, что-то ваш знакомый напутал. Я на концерте пел, а не стихи читал.
— Отнюдь. И вот что я скажу, Геннадий. Вы разрешите к вам так обращаться?
— Почему же нет! Называйте.
— Актер — он есть или его нет. Вот и все. Вам понятно? И еще скажу вам на прощание. В вашем лице есть что-то благородное и держитесь вы, как ас.
Вечером мне делать все равно нечего, и я иду в клуб.
— Вы читали комедию Грибоедова «Горе от ума»? — с лету задает мне вопрос Тонников, как только я появляюсь в клубе.
— Не читал, а что? — отвечаю я вопросом на вопрос.
— Какое счастье, что вы не читали. Мы вместе будем прямо сейчас читать эту комедию. Вместе! Раздевайтесь.
Он открывает небольшую книжечку и торжественно произносит:
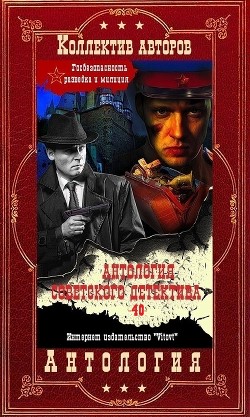

![Юрий Кларов - Пять экспонатов из музея уголовного розыска [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/181018/181018.jpg)