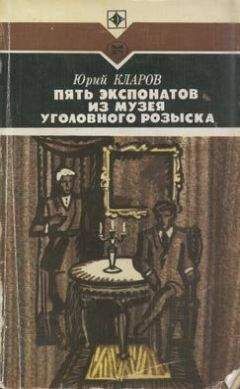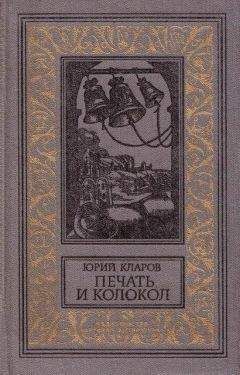Глава VIII
Не знаю, может, это дружба с Тамарой так влияет на меня, но только я начинаю оттаивать и перестаю источать черные флюиды. И в доме все становятся добрее, постепенно забываются старые ссоры. И мать хочет мира в семье, и я. Стоит мне с отцом, братьями перекинуться взглядами, чтобы понять — все этого хотят. Тянет нас друг к другу, даже если об этом и нет разговора. И возникает надобность в случае, в причине, дающей возможность воцариться настоящему миру. Наперед подобное не задумаешь. Такое появляется само, внезапно, точно трава из земли, от светлой потребности каждого.
И случай нам предоставляется.
С цветущей улыбкой на устах появляется после работы отец и объявляет:
— Нам выделили садовый участок. Восемь соток.
Как бы нам худо жилось, если бы отцу не дали этот садовый участок. Ждать невмоготу, нам надо всем собираться и ехать смотреть его. И такое нас охватывает волнение, такое нетерпение, что и младшие, и старшие понимают: это должно случиться в первое же воскресенье. Потом будет уже не то.
Мы сходим с электрички на станции Чепелево и идем к неизвестной, но уже своей земле. И по одному тому, как легко несут нас ноги, ясно, что всем хорошо. Я гляжу на мать, ей радостно даже скользить по глине, утопать в весенней слякоти, и она восклицает:
— Как хорошо, мы идем все вместе!
День только начинается, впереди чернеет лес; еще немного, и мы, пройдя через него, выйдем к высоковольтке. А там, за ней, садовые участки.
Едва мы находим колышек с нашим номером, как я и думать забываю о своих бедах и проблемах. Потому что от чмокающей под ногами весенней земли поднимается какой-то удивительный животворящий дух, наполняющий меня, родителей и братьев силой, энергией и радостью.
Мы снимаем вещевые мешки и принимаемся за работу. Метр за метром очищаем участок от кустарника, чахлых березок и осинок, выкорчевываем пни, все это стаскиваем в общую кучу и поджигаем. А когда солнце останавливается в зените, мы едим удивительно вкусную, приготовленную на костре гречневую кашу, заправленную свиной тушенкой, пьем чай с дымком.
Мать отпивает несколько глоточков чая из кружки, а потом вскидывает голову, внимательно обводит нас всех глазами и говорит:
— Мой отец считал: если есть земля, то никому не надо кланяться. И вы, дети, никому не кланяйтесь. Лучше пусть про вас говорят «хамье неотесанное», чем вы станете кланяться; лучше пусть дикарями называют, чем шапку ломать… — Мать запинается, но быстро собирается с мыслями и продолжает: — Трудно это, дети мои, трудно не кланяться, но вы не кланяйтесь.
На первый взгляд на садовом участке мы только работаем. Кажется, что в этом особенного? Но если вникнуть, — труд на нем дает мне и братьям то, без чего нельзя оставаться порядочным человеком, чтобы, когда наступает лихая година, не падать на колени, в грязь и не распускать слюни: «Больше не могу, делайте со мной, что хотите».
А потом приходит май. Солнечный и теплый. На первомайской демонстрации студийцы идут в заводской колонне своей группой. Светланы нет. Ее на праздники родители увезли в Подольск. Меня со словами «Можно к вам, господин Чацкий, пристроиться» берет под руку Тамара Коробец. Людской поток все прибывает. И вот уже демонстрация лавиной катится по залитой солнцем Москве к Кремлю, к Красной площади. Люди переговариваются, шутят, и надо видеть, как они смеются! И я тоже смеюсь и шучу, как все. Я наслаждаюсь, живу полной жизнью и не ведаю горечи, разочарования, да и не думаю ни о чем плохом.
Я с Тамарой плыву в ярком бурлящем потоке, в море свежих, звонких голосов. И наш смех, наша песня вливаются в общее веселье, в музыку оркестров, гармошек, аккордеонов, гитар. Нас радует разноцветье юбок, кофточек и рубашек, разметавшихся причесок, глаз, вбирающих в себя все майские краски, чтобы лучиться их светом. Красные знамена пламенеют в воздухе. Транспаранты, портреты руководителей государства плывут над толпой. В стекле одной из витрин мы видим отражение своих взволнованных, горящих лиц, невольно вырываемся из общего потока и выходим на тротуар.
— Ген, а слабо тебе сделать так, чтобы мы сейчас же оказались в лесу, у реки? — спрашивает меня Тамара. Глаза ее так и вспыхивают, словно в них зажигаются лампочки.
— Запросто! Не пройдет и часа, как мы окажемся в лесу и у реки.
И вот я несу Тамару по весеннему Филевскому парку, прижав крепко к груди. Так ей хочется. А она воркует:
— Чацкий, я ни о чем не думаю. Мне так хорошо с тобой! И приятно чувствовать себя маленькой, беспомощной девочкой в твоих сильных руках.
Нежно и взволнованно шумят над нашими головами сосны. Весело и игриво проникают солнечные лучи сквозь тесно сплетенные ветви деревьев. И мне кажется, что и небо, и земля — все радуется вместе с нами, и звучит какая-то необычная, удивительно нежная музыка. Но я хочу, чтобы об этом знала и Тамара. И я очень тихо, боясь своим голосом потревожить музыкантов, спрашиваю ее:
— Ты слышишь сейчас какую-нибудь музыку?
— Да, — так же тихо отвечает она. — В этом лесу играет невидимый оркестр. Вот сейчас звучит голос арфы. А знаешь, Гена, давай сходим на симфонический концерт. Я уверена, что классическая музыка тебя очарует. Ты так чутко воспринимаешь музыку, что даже слышишь пение леса.
Потом мы идем, взявшись за руки, и не отпускаем друг друга, даже если тесно стоящие деревья не позволяют пройти нам вместе. Мы протискиваемся между ними, но вдвоем, не разделяя рук. Так мы доходим до берега Москвы-реки и спускаемся по крутой деревянной лестнице к лодочной станции. Я беру лодку, усаживаю в нее Тамару и отталкиваюсь веслом от причала. Мы плывем. И вдруг она, указывая на воду, восклицает:
— Рыбки, золотые рыбки!
Я смотрю на реку и вижу, как в воде переливаются, вытягиваясь столбиками, солнечные лучи. Кажется, что они играют, то опускаясь на дно, то поднимаясь на поверхность. Я пристально вглядываюсь в Тамару и говорю:
— Вы здесь? Я очень рад. Я этого желал.
Тамара мне отвечает:
— И очень невпопад.
Я картинно восклицаю:
— Конечно, не меня искали?
Тамара, презрительно скривив губы, бросает:
— Я не искала вас.
А я, как бы про себя, рассуждаю:
— Дознаться мне нельзя ли, хоть и некстати, нужды нет: кого вы любите?
Тамара вскакивает на нос лодки и, раскинув руки, восклицает:
— Ах! Боже мой! Весь свет… — И падает в воду, так как лодку в этот момент качнуло волной, поднятой проходящим мимо речным трамвайчиком. Правда, уйти под воду она не успевает. Я мгновенно хватаю ее за волосы. Но втащить Тамару назад в лодку стоит мне большого труда. Она так напугана, что не владеет собой совершенно. Наконец я справляюсь.
— Еще бы немного — и конец, — выдыхает она, уже сидя в лодке. Тамару бьет дрожь. — Это скоро пройдет, — говорит она. — Дай я прислонюсь к тебе.
Я тоже потрясен. Чувствую, как неистово колотится у нее сердце.
Я быстро подгоняю лодку к берегу, где не особенно людно и есть кустарник. Дрожь у Тамары не прекращается, видимо, и от купания в майской воде, и от испуга. Я отдаю ей свои рубашку и брюки и остаюсь в одних сатиновых черных трусах, подвернув их так, чтобы они хоть чуточку сходили за плавки. Она снимает с себя все и надевает мои вещи. Я выжимаю Тамарину одежду и развешиваю на ветки кустарника. Потом сую руки под рубашку и растираю ей спину до тех пор, пока она не становится горячей. Затем быстро отгоняю лодку на станцию и возвращаюсь. Тамара уже прогуливается по берегу, закатав мои штаны и выпустив наружу рубашку.
— Софья Павловна, мне кажется, что вам придется сегодня гладить мои брюки, — обращаюсь я к ней.
— Милый Чацкий, — смеется она в ответ, — за спасение утопающей я тебе не только брюки и рубашку, а и все остальное выстираю и выглажу. И будешь ты у меня как огурчик. Высушим мою одежду и едем ко мне домой.
На улице Правды, где находится дом Тамары, мы оказываемся около пяти часов. Квартира, в которую мы входим, чем-то напоминает нашу. В большой комнате в углу такой же светлый, как у нас, трехстворчатый гардероб, посередине — обеденный стол и вокруг него венские стулья. В простенке у окна — этажерка с книгами. Правда, пианино, что стоит у них рядом с гардеробом, у нас нет.
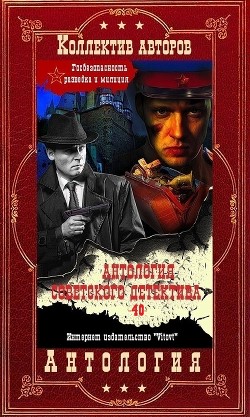

![Юрий Кларов - Пять экспонатов из музея уголовного розыска [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/181018/181018.jpg)