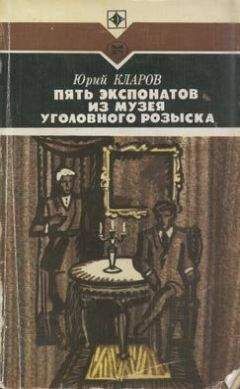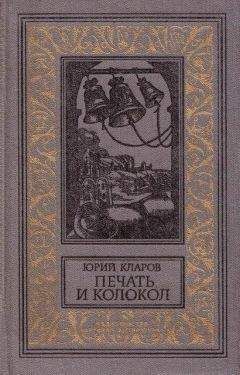— Мне кажется, что я слышала твой голос… — с сомнением произносит мать.
— Наверное, это я во сне.
Отец внимательно смотрит на меня:
— Как твое самочувствие, сын? Хочешь, я вызову тебе врача.
— Нет, нет, не надо, — отвечаю я. — Здесь у меня личный доктор.
— Тогда мы не станем тебя больше беспокоить до твоего звонка.
И за моими родными сжимается клин резкого яркого света, и они исчезают вместе с ним.
Но вскоре моя палата вновь освещается, и я вижу сидящих рядом со мной Владимира Чивилихина, Юрия Мелентьева, Владимира Карпова, Вадима Рыковского, Владимира Штепу, Григория Хозина, Альберта Иванова и многих других. О, сколько же их здесь, моих друзей-историков!
— Уважаемые коллеги! — говорит Владимир Чивилихин. — На сегодняшнее заседание Клуба любителей русской истории приехал из Швеции наш друг Владимир Ильич Штепа. Он редактор и издатель журнала по истории славянорусов «Факты». Давайте предоставим слово гостю.
— Друзья, — начинает свою речь Штепа, — самым древним из наименований славянства было «Кимры, кимбры, киммерийцы, куммерийцы». Букву «к» можно заменить и на «с» и «ш». Она была лишь придыханием в начале слова, которое можно обозначить как «уммер, иммер, оммер». Греки использовали для этого слова букву «Н» (ха) и писали HOMEROS, OMEROS. Гомерос, Амерос. Да, имя великого барда древности вовсе не имя, а просто указание на его национальность, как и прозвище Энея, оба они значат одно и то же: «славянин». Настоящие имена не сохранились. «Велесова книга» (в переводе С. Лесного) сообщает нам: «БЯСТА КИМОРЕ ТАКОЖДЕ ОЦЕ НАХШЕ, А ТИ ТО РОМЫ ТРЯСАЙ, А ГРЕЦЕ РОЗМЕТАШЕ, ЯКО ПРАСЕТЕ УСТРАШЕНЫ». То есть «Были Кимрами отцы наши, и те потрясли Рим, а греков разметали, как испуганных поросят». Под потрясением Рима имеется в виду, несомненно, отчаянный поход киммеров во главе с Бояриком. Поход трехсот тысяч человек вылился в беспрерывный ряд сражений. Он начался в 120 году до нашей эры. В 113 году в битве при Норее (возле Дуная) они нанесли сильнейшее поражение римлянам. В 105 году они буквально истребили римские легионы в Галлии в битве под Араусио (Arausio)…
Я еще смотрю на Вадима, а он на меня, как все вокруг смолкает, застывает; потом свет начинает медленно рассеиваться, острые углы исчезают, краски тускнеют и блекнут, и палату затопляет стремительный бесшумный поток бурого сумрака. Больше не слышно ни звука. Но мне, оставшемуся сидеть неподвижно, кажется, что я еще вижу неясные фигуры. Но очень скоро и эти слабо видимые фигуры разделяются на темные клочья и совсем исчезают. Больше ничего нет. И все так, как раньше. Но во мне уже нет сонной вялости, и я не просто бодрствую, я живу радостью от встречи с друзьями.
И в этот момент начинается игра света и тени, слышится чарующая мелодия, а палату спокойно пересекает волк. Я вскрикиваю, однако волк не пугается. Он останавливается, и мы какое-то время глядим друг на друга. Затем волк подходит ближе: его острые, черные, как антрацит, глаза впиваются в меня. Я, обескураженный, сажусь на кровать.
— Что вы здесь делаете, Якушин? — говорит волк голосом комбата. Я вскакиваю с койки и вытягиваюсь перед ним. — Чего вы вскочили? — чуть улыбается волк и делается радужным. Тело его начинает сиять. А затем он становится струящимся, жидким светящимся существом. Его свет ослепляет. Волк касается меня, и мое тело испытывает прилив неописуемой теплоты. Мы вместе взмываем над Москвой.
Я чувствую силу поднимающего меня ветра, я парю. Что это, предсмертный мираж или, наоборот, я возвращаюсь к жизни? Волка рядом уже нет, я один в небе. Я, словно стрекоза, зависаю над гостиницей «Украина», а затем лечу вниз, набирая скорость. Но, едва набрав ее, я решительно устремляюсь вверх. Какое-то время я лечу прямо, слегка покачиваясь. Потом принимаю совсем малый угол атаки, ухожу в скорость на грани флаттера, и в груди у меня замирает, сжимаются зубы, и тело напрягается. Из пикирования я плавно и уверенно выхожу на подъем и, поймав ветер, величаво и легко вписываюсь в долгий вираж. Я ухожу далеко-далеко и кружу над Филевским парком, над Рублевским шоссе, над ближней Сталинской дачей, над Можайкой, почти не теряя высоты.
Я лечу, и вдруг все кругом заливает холодный красноватый свет, струящийся навстречу мне. Я поднимаю глаза, и четыре вспышки света, как молнии, озаряют возникшего передо мной неизмеримого иссиня-черного орла. Он держится прямо, высотой уходя в бесконечность. Взглядом я схватываю контуры его тела и вижу белые мазки, которые выглядят, как перья, потом колышущуюся и создающую ветер черноту крыльев и глаза хищника. Я вижу, как орел пожирает сознание людей. Он разрывает эти маленькие осколки пламени, раскладывает их, как скорняк шкурки, и съедает. И я понимаю, что сознание людей — пища орла. Минута, две, и я тоже окажусь у его клюва. Нет, я должен сохранить в себе огонь сознания. Внезапно рядом со мной оказывается мое второе «я», тот самый черт. Теперь нас обоих притягивает к себе орел, как мотыльков пламя. Я сближаюсь с чертом, ненависть к этому исчадию ада переполняет меня. Всем нутром я ощущаю, что и мое второе «я» ненавидит меня ничуть не меньше. Мы все ближе и ближе друг к другу, но одновременно и ближе к орлу. И вот почти у самого клюва птицы мы соприкасаемся, а точнее сталкиваемся, и это столкновение вызывает такой мощный выброс отрицательной энергии, что на какой-то миг блокирует внимание орла. И я с чертом, уже слившись в единое целое, проношусь мимо хищника.
После такого напряжения я, еще не достигнув земли, засыпаю. А когда открываю глаза, то вижу сидящих возле моей кровати мужчину и женщину в белых халатах. Я перевожу взгляд и вижу зарешеченное окно, а за ним свет.
— Удивительно, но, кажется, у Якушина появляется осознанный взгляд, — говорит женщина.
— Да, да! Вы правы, — вторит ей мужчина. — Это просто чудо, это невероятный успех. Надеюсь, что через пару-тройку недель его можно будет выписывать. С чертом, я думаю, он больше не станет встречаться.
…Я выхожу на улицу. На мне какой-то кургузый пиджачок, мятые замызганные брюки и ботинки столетней давности. Я оборачиваюсь на дверь, которая только что за мной захлопнулась. Слева от нее на стене табличка: «Психиатрическая больница».
Уже осень, но пока еще тепло. В скверике еще играют красками цветы. Где-то громыхает трамвай. Я нахожу свободную скамейку и опускаюсь на нее. Надо хоть немножко прийти в себя после больницы. Вокруг в поисках пропитания прохаживаются, томно и вкрадчиво воркуя, жирные голуби с переливчатыми шеями. Я принимаюсь следить за птицами; вдруг они все поднимаются в воздух, в глазах рябит от черно-белых крыльев. Голуби с трудом отрывают от земли свои тяжелые гузки, будто что-то не пускает их вверх. Но взлетев, привольно взмывают все круче и круче, маша крыльями и вытянув шеи вперед; дважды черно — белыми всплесками крыльев проносятся над сквериком, над моей головой, над улицей, потом устремляются к крыше ближайшего дома. Облетают раз, облетают два и только после этого опускаются, кто на карниз, кто на крышу, кто на кирпичную трубу. Расхаживают, выставляясь друг перед другом, хлопают крыльями, а иные просто отдыхают. И вдруг я вижу, что полстены этого дома закрыто какой-то фигней. «Плакат, что ли? — размышляю я. — Тогда почему текст латиницей написан и фотография полуголой девицы? Что за чушь!» Я поворачиваю голову к Садовому кольцу, а по нему несутся шикарные машины, обгоняя наши «Волги» и «Жигули».
Я чувствую себя, как потомок Чингисхана в одноименном фильме, когда тот попадает в город. Я встаю со скамьи, иду к подземному переходу и спускаюсь в облицованный плиткой тоннель. Впереди, сзади, по сторонам от меня о бетонный пол гремят шаги. Но люди, проходящие мимо меня, тоже какие-то другие. Многие из них одеты в спортивные костюмы и кеды, на которых тоже латинские буквы. Они развязны и одновременно испуганны. С уст их без всякого стеснения летит матерщина. Полным-полно в переходе нищих. От многих из них дурно пахнет. Наконец я сворачиваю к входу в метро. Здесь женщина с лицом учительницы поет русские песни под аккомпанемент баяна. Дальше, выстроившись в шеренгу, что-то тянут четыре старушки.
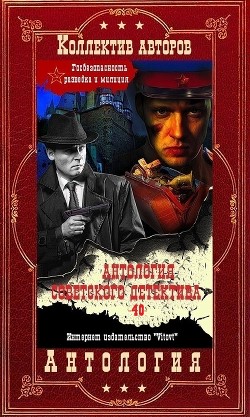

![Юрий Кларов - Пять экспонатов из музея уголовного розыска [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/181018/181018.jpg)