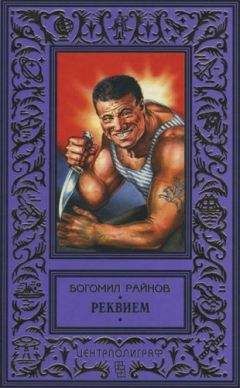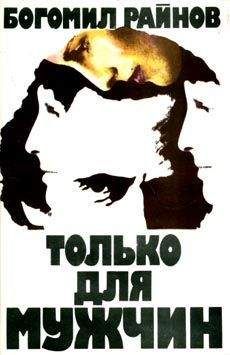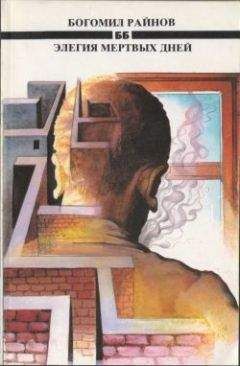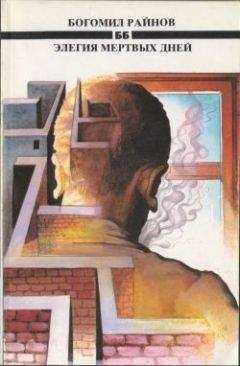— Пожалуйста, два виски!
— Я имею в виду своих родителей, — поясняет девушка. — В сущности, они давно развелись.
— Почему?
— Да... как обычно бывает, без серьезных причин. Мой отец — раб своего дела. А матери хотелось, чтобы он был ее рабом.
— Теперь вроде не рабовладельческий строй.
— Ну, если не рабом, то, по крайней мере, провожатым: чтобы водил ее куда ей вздумается, особенно по ресторанам, в гости, в театр... А бедняга отец едва ли смог бы высидеть до конца пьесы, если не проспит ее.
Пауза, вероятно вызванная присутствием официантки.
— Так что они разошлись, и я очень плакала, была еще совсем глупенькая и не понимала, что от этого я только выиграю. Теперь отец чувствует себя передо мной виноватым, что развелся. Мать тоже чувствует себя виноватой, что вышла замуж за другого. Истинное счастье жить между двумя виноватыми родителями. Каждый старается доказать, что он добрей.
И снова пауза.
— А твой отец? — спрашивает Анна.
— Умер.
— А мать?
— Она еще жива. Все еще...
И прочее в этом роде. Пока не кончается пленка.
— Довольно пустой разговор с профессиональной точки зрения, — устанавливает Борислав.
— Но обещающий.
— Да, обещающий катастрофу. И не в далеком будущем. Парень хваткий, времени зря не теряет.
— Хваткий парень и ветреная девушка... Идеальное сочетание для Томаса.
— Ты считаешь, что она окажется до такой степени ветреной? — спрашивает друг.
— Тебе известно, что я читаю медленно, и мне сразу трудно ответить. Особенно когда материал подается в искромсанном виде, как некое рагу. Тут тебе снимки Анны Раевой, там письменная справка о ней же, а там запись ее звонкого голоска. Мне кажется, что если я обменяюсь с этой Анной несколькими словами, но только так, один на один, то у меня будет более верное представление о ней, чем то, которое может сложиться после ознакомления с целой кучей звукозаписей и визуальных документов.
— Именно это я и хотел сказать, — замечает Борис-лав. — Может, эта техника и полезна, но порой она начинает действовать на нервы. Особенно в тех случаях, когда ты имеешь дело с одной лишь техникой, и вместо того, чтобы действовать, вести поиск, встречаться лицом к лицу с теми, кто тебя интересует, ты сидишь в оцепенении в четырех стенах, меняешь пленку, просматриваешь видеозаписи, листаешь бумаги. — И он с досады швыряет на стол пустой мундштук.
— Ну, теперь ты не будешь жаловаться на то, что приходится сидеть в четырех стенах, — обращаюсь я к Бориславу, когда мы входим на следующий день, в обеденную пору, в кабинет. — Тебя ждет дорога.
— На Панчерево или на Дервеницу? — скептически спрашивает он.
— Несколько дальше. В Стамбул.
— По какому поводу?
— Повода два: Томас и Чарли. Первый уезжает поездом, другой — самолетом. Причина пока неизвестна, но совпадение волнующее.
— И ты делаешь великодушный жест — посылаешь меня, вместо того чтобы ехать самому? — спрашивает Борислав, все еще исполненный недоверия.
— Никаких жестов. Я еду поездом, а ты — самолетом.
Как ни странно, поезд трогается точно по расписанию. Это тот самый «Ориент-экспресс», который в былое время пользовался такой славой у любителей путешествий в страны Востока.
Однако времена меняются. Восток теперь уже не столь экзотичен, а «Ориент-экспресс» не блещет комфортом. Богатые путешественники предпочитают летать на самолете, а бедные приносят малый доход — не имеют обыкновения ездить в мягких вагонах. К тому же на Балканах ныне социализм. И вот былой символ быстрого и удрбного передвижения превратился в обычный и довольно захудалый пассажирский состав. Он ползет и пыхтит, словно мучимый астмой, останавливается перед каждым кирпичом и обычно опаздывает от получаса до полусуток.
В спальном купе все же уцелели некоторые потускневшие атрибуты былого уюта. Бархатная обивка диванов шоколадного цвета, полированные наличники красноватого дерева, малиновое сукно на полу и отделанные кожей стенки, украшенные монограммами Кука, — все это напоминает о временах, когда железнодорожная линия Париж — Стамбул действительно была золотой жилой для реномированной фирмы «Вагон-ли». И вся эта старинная обстановка, пропитанная вечными для железной дороги запахами дыма и шлака, напоминает мне и об иных вещах былых времен, связанных с другими путешествиями той поры, когда я еще не подсчитывал прожитых лет.
Уже спускаются сумерки, силуэты деревьев и строений проносятся мимо окна купе, синеватые и смутные, я всматриваюсь в них, не особенно их видя, вслушиваюсь в мерный перестук под вагоном и в звон стаканов в шкафчике, не особенно их слыша.
Мое внимание привлекает стук в дверь, входит проводник, уже немолодой мужчина с усталым лицом, с виду какой-то неуклюжий, в коричневой форменной фуражке, которая, кажется, ему мала. Он забирает у меня билет, бросает беглый взгляд на паспорт, оставленный на столике, и услужливо предлагает: .
— Может, кофейку желаете или еще чего-нибудь попить...
— Я бы взял кофе.
Несколько погодя он приносит большую чашку массивного голубого фарфора с вензелем Кука, заботливо кладет на блюдце под чашку бумажную салфетку и опять услужливо произносит:
— Ежели вам что-нибудь понадобится, нажмите на кнопку звонка.
Поблагодарив, я выпроваживаю его. В голосе этого человека слышится нотка, которая мне не очень по душе, нотка угодливости, выходящей за рамки обычной служебной учтивости.
Выпиваю кофе без особого удовольствия, самый посредственный растворимый кофе, пропахший, как и все прочее в поездах, каменноугольным дымом. Затем опускаю занавеску, накидываю на дверь цепочку и вытягиваюсь на постели.
Мое купе находится в непосредственном соседстве со служебным помещением проводника. Во всем вагоне заняты всего четыре купе, не считая моего, но я испытываю особый интерес к тому, что в самом кон-'це коридора. И, чтобы удовлетворить свое любопытство, достаю миниатюрный приемничек и нажимаю на кнопку.
Разговор ведется вполголоса и в значительной мере тонет в неизбежном шуме, сопровождающем пассажира железной дороги, образуемом стуком колес, скрипом старой подвески и разнородными звуками, исходящими от стаканов, бутылок, вешалок. Разумеется, запись впоследствии будет очищена от этих паразитических наслоений, но я не могу ждать до тех пор.
В сущности, беседа, которая ведется урывками, по всей вероятности Томасом и его секретаршей, и достигает моего слуха еще более отрывочно, меня пока что особенно не волнует, и я несколько раз то выключаю приемник, то снова включаю, дожидаясь чего-нибудь более любопытного.
Уже полночь, и я ощупываю приемник в полудреме, грозящей перейти в здоровый, бодрящий сон, когда «более соблазнительное» наконец приходит. Слышатся по-прежнему два голоса, только теперь оба мужские.
— Вас кто-нибудь видел? — отчетливо звучит голос Гомаса.
В коридоре пусто, — отзывается голос проводника.
Дальше разговор ведется совсем тихо, и, как я ни напрягаю слух, в несмолкаемом шуме удается поймать лишь отдельные слова.
— ...Новости... от Старого... — доходит до меня куцая реплика дипломата.
Ответ совершенно не слышен.
— ...Есть основания тревожиться? — более членораздельно спрашивает Томас.
— ...Меня задержат... вопрос нескольких дней... — неожиданно повышает тон проводник.
Затем следует целая серия реплик двух собеседников, между которыми определенно возник какой-то спор, но вот беда, они никак не желают говорить чуть громче и ясней, чтобы их мог понять каждый. И лишь когда в сильном возбуждении голос проводника становится резче, до меня доходят отдельные слова. Одни лишены всякого смысла, иные же кажутся весьма емкими. Так в течение каких-нибудь десяти минут у меня в голове накапливается маленькая коллекция словесного лома.
«Им невдомек... порой и тут за мною следят... по-вашему, я фантазирую... я не ребенок... ничего не грозит... может быть, вопрос нескольких часов... пять лет... играть с огнем... жена и дети... без них какой мне смысл... лучше я пойду в дворники...» И тому подобное. Все это изречения кондуктора.
Что касается Томаса, то его вклад в коллекцию тоже кое-что значит:
«Контрабанда наркотиков... собирались ощупывать ваше белье, шов за швом... вы переутомились... нервное истощение... и сознаетесь во всем... дипломатическая почта... нас касается, а не вас... ваш последний рейс... их тоже высвободим... человек от имени Старого...»
И наконец тот же голос с необычайной ясностью изрекает:
— А теперь можете идти. Только будьте предельно осторожны.
Маленькая коллекция, которую я создал в голове, слишком бедна для обстоятельного доклада начальству. Но достаточно богата, чтобы сделать поучительные выводы из всей этой истории. Истории не новой. Истории предательства и неизбежного конфликта между предателем и его хозяином.