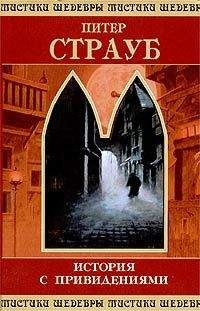Мои задания не отличались от тех, что доставались другим, и были такими же грязными. Но Файфшир, по крайней мере, благодарил меня после каждого, щедро угощал виски, или шерри, или чем-то еще, что находилось в его мрачном, обшитом дубовыми панелями, звуконепроницаемом кабинете на Карлтон-Хаус-Террас с видом на Молл и каменное, напоминающее коробочку для пилюль и замаскированное плющом здание, прикрывавшее в годы Второй мировой войны зарывшийся глубоко под землю центр связи Адмиралтейства.
Но какой бы радушный прием ни устраивал Файфшир, он всегда держал дистанцию. Агентов называл только по номерам и упоминал их только по номерам, хотя это случалось не часто. Он верил в автономность – агенты не должны знакомиться друг с другом, должны тренироваться изолированно, работать изолированно и при необходимости умирать изолированно.
В Глостершире у Файфшира было загородное поместье, на Уимпол-стрит – квартира. Женат он, насколько известно, ни разу не был, и все его существование сводилось к работе. Он работал постоянно и непрерывно, независимо от того, где находился и что делал – сидел в офисе, мерил шагами квартиру или проводил идиллический уик-энд в роли деревенского сквайра. Работе Файфшир отдавался с рвением миссионера и все силы употреблял на то, чтобы поддержать надежность британской разведки, сохранить ее единство и целостность и сделать крепче и сильнее.
Крепкий как сталь, соображающий быстрее любого калькулятора, безжалостно твердый – таким был сэр Чарльз Каннингем-Хоуп. В начале Второй мировой войны он вступил в армию и дослужился до звания генерал-майора. Прежде чем удача отвернулась от него и немецкий снаряд снес голову, заключавшую в себе выдающийся мозг, талант заметили, и Каннингема-Хоупа доставили самолетом с фронта в Уайтхолл, где он и пребывал с тех пор.
С неба перестали падать бомбы, боевые действия закончились, стороны заключили мир, но для Файфшира война продолжалась, и конца ей не было видно. Холодная война, теплая война, кровавая война, тихая война – как ни назови, в конце концов все сводилось к одному: выживанию. Он намеревался выжить, и для того, чтобы это случилось, выжить должен был его мир, а чтобы мир выжил на приемлемых для него условиях, выжить должна была страна. И не просто выжить, а подняться и стоять так, чтобы с ней считались. Вот почему он и воевал – изо дня в день.
В послевоенный период ряд событий – самыми известными стали такие крупные провалы, как дело Филби и потрясающая близорукость Идена в дни Суэцкого кризиса, – серьезно подорвали доверие Соединенных Штатов к британской разведке. Так что задача перед Файфширом стояла незавидная.
Однако же он преуспел. Начиная с 1957 года, когда Файфшир стал во главе департамента, главные западные державы все чаще и чаще обращались к нему как к наиболее заслуживающему доверия источнику информации. Что бы они ни думали о правительствах и скомпрометировавших их политиках, Файфшире и ведомстве, которое он построил, укрепил и усовершенствовал, они слушали.
Факты – вот что было самым главным для Файфшира. В них он верил безоговорочно. Подобно диккенсовскому Грейндграйнду он внушал этот месседж своим ученикам: «Мне нужны факты… В жизни востребованы только факты». Файфшир жаждал фактов. Они были источником жизненной силы, кровью британской разведки. Агенты служили всего лишь инструментами для добывания фактов. Он хотел знать все обо всех, ничего не оставлял на волю случая и никому не доверял, даже тем, кто работал на него. Особенно тем, кто работал на него. «Какой толк от всей британской разведки, если у нас хотя бы один шпион?»
Меня определили шпионить за сотрудниками МИ-5. Последние шесть лет я следил за ними всегда и везде, куда бы они ни пошли – в магазин, кино, туалет, к проституткам, в массажный салон, к любовницам, на отдых в Богнор и на Тенерифе, в Нассау и Москву. Я видел мужей, свисавших с люстр, и жен, хлеставших их ивовыми плетками. Видел шестидесятилетнюю секретаршу, старую деву, катавшуюся по гостиной на роликах – голой. Я записал на пленку сотни встреч, истоптал сотни продуваемых ветрами перекрестков, проглотил сотни дешевых сэндвичей и не нашел ни одного чертова предателя.
Но один все же имелся. Я был в этом уверен. Файфшир был в этом уверен. И он знал, что если будет продолжать следить, если я буду продолжать следить, если остальные будут продолжать следить, то рано или поздно шпион, кто бы это ни был, допустит ошибку.
На четвертом году работы я наткнулся на Скэтлиффа. У него была секретарша, горбоносая, тощая, морщинистая мегера, напоминавшая улетевшего из клетки громадного орла. Люди ее породы, дотошные и педантичные, следят за тем, чтобы все было на своем месте, и ведут строгий учет самих этих мест. А еще я узнал, что она – невероятный тезавратор.
У секретарши была большая квартира в разваливающемся террасном доме на Уэстборн-Террас, неподалеку от Бейсуотер-Роуд. Квартира, до предела забитая самым невероятным хламом: пирамидами коробок с колготками, купленными на распродаже в «Дебенхеме»; сотнями пустых пластмассовых пудрениц; кучами мужских нейлоновых носков, добытых на другой распродаже; рядами разного размера туфель; газетами и журналами десятилетней давности; пустыми консервными банками, начисто вымытыми и аккуратно составленными. Судя по всему, она застала бум старинных вещей и была твердо намерена не пропустить следующий.
Возле каждого предмета лежал волосок. Проверяя положение волосков, секретарша могла определить, трогал ли кто-то ее вещи. Я потратил на эту квартиру несколько дней, но волосков не заметил. Однажды она из-за мигрени вернулась домой раньше обычного и увидела, как я выходил из здания. Проверила положение волосков, смекнула, что к чему, и доложила Скэтлиффу, что я за ней шпионю.
Коммандер Клайв Скэтлифф был в департаменте первым человеком после Файфшира. Раздражительный, далеко за сорок, невысокий, худощавый и гибкий, с седыми, небрежно зачесанными назад волосами, что совершенно ему не шло и делало похожим то ли на пианиста-аккомпаниатора, то ли на продавца подержанных авто. Крохотные, цепкие, холодные глазки постоянно бегали туда-сюда, ни на чем подолгу не задерживаясь. Рот маленький, тонкие губы плотно сжаты. Говорил он как будто сплевывал, а сказав, что хотел, снова поджимал губы. Кожа болезненно-бледная, словно и солнца никогда не видела, руки костлявые, пальцы почти всегда сцеплены. Иногда казалось, что сама атмосфера реагирует на него высоким давлением.
Наверх Скэтлифф пробился как-то странно и неожиданно. Три года назад о нем никто и не слышал. Но он работал как проклятый, был крайне умен, лизал любую важную задницу, а когда облизанный поворачивался, чтобы поблагодарить за услугу, обходил его сзади и наносил удар в спину. Он считался близким другом прежнего министра внутренних дел, а теперь прикормил и Энтони Лайнса. Нравился Скэтлифф немногим, и Файфшир в это число не входил. Он никогда не выказывал открытой враждебности, но я все видел и понимал. Неоспоримым оставался тот факт, что Скэтлифф метит на самое высокое место. И даже сам Файфшир объявил его своим наиболее вероятным преемником. Как профессионал, он не мог не восхищаться способностями заместителя, хотя и не делал секрета из того, что лично отдает предпочтение Виктору Хаттену, всеми любимому директору службы безопасности СИС.
Узнав, что я шпионю за его секретаршей, Скэтлифф пришел в ярость. Он вызвал меня в кабинет и орал минут десять кряду. Ему было наплевать, кто давал мне инструкции – пусть даже сам Господь Бог. Его личный штат проверке не подлежит – вот что главное. А скрытое наблюдение за секретаршей есть неуважение к его мнению. Скэтлифф поднял такую вонь, что ради поддержания мира и гармонии даже непоколебимый Файфшир был вынужден отступить и на какое-то время оставил заместителя и его сотрудников в покое.
Через несколько месяцев, когда пыль улеглась, шеф сказал, что мне, как ему представляется, стоило бы со Скэтлиффом помириться. Даже по прошествии немалого времени тот продолжал – да, несправедливо, соглашался Файфшир – обвинять в случившемся меня, а не того, кто давал распоряжение на слежку за секретаршей. Шеф также сказал, что рано или поздно уйдет, и, когда это случится, именно Скэтлифф займет его место. Если я заранее не приму нужных мер и не добьюсь смягчения в наших отношениях, меня ждут трудные времена.
Я ответил, что, мол, более трудные и представить невозможно, но Файфшир заверил, что мои нынешние трудности – это цветочки. Произнес он это так, что всякое желание спорить у меня отпало. Шеф умел убеждать.
Меня приписали к Скэтлиффу на двенадцать месяцев. Радушия и тепла в этом человеке было меньше, чем в замороженном в криогене трупе. Агентов он уподоблял насекомым и в обращении проявлял примерно такое же уважение, какое демонстрирует садовник, встречающий тлю залпом ДДТ.
Выходные Скэтлифф проводил с женой в их доме в Суррее, но большую часть недели жил в Лондоне. Как и Файфшир, он рано приходил на службу и поздно уходил. Рабочий день начинался у него довольно необычно: ровно в 6:15 сексуальная черная проститутка приходила в его квартиру в Кэмпден-Хилл и делала ему минет, а в 7:00 служебный «ровер» министерства внутренних дел забирал его у дома и отвозил в офис.