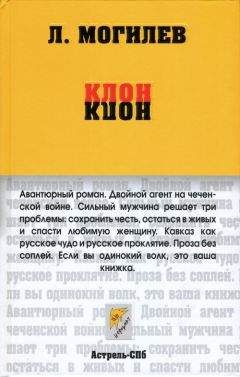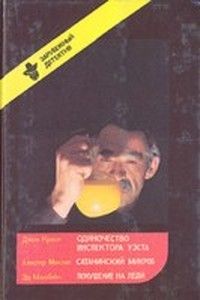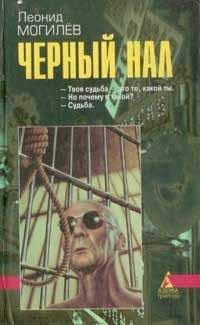— Я питерский.
— А я ростовский. Ростов-папа. Слыхал о таком?
— Нет. Первый раз слышу.
— А у тебя документы есть?
— Были.
— И гиде ани?
— Забрали.
— И что у тебя было? Семерка?
— Паспорт у меня был.
— Сказок не рассказывайте. Эй, начальник!!!
Он заколотил в двери камеры, забился. Открылось окошко, потом дверь. Вошли солдаты с резиновыми палками.
— Ты что, сука?
— Хрена вы работаете грубо? Заберите его отсюда.
— Кого его?
— Стукачка вашего!
— Что?!
— Учить надо лучше. Инструктировать.
Бомжа отладили дубинками. Уходя, нас всех подняли, поставили лицом к стенке и отладили по спинам и мягким местам.
Бомж притих и сник.
— Ты, брат, так больше не делай, — попросили его карачаи. Сначала один, потом другой. — Больно.
— Идите вы все…
Он отвернулся от нас, присел в углу.
Вечером в камеру принесли полбуханки хлеба и по кружке воды. Вода была нечистой. Меня вызвали первого и посадили во дворе в «воронок». Там были только двое солдат. По пути в СИЗО, а ехали мы в Чернокозово минут двадцать пять, они по разу пнули меня по ногам. Не больно. Так, чисто рефлекторно. Потом был обезьянник. Здесь я оказался уже с настоящими чеченами. Их человек шесть маялось под надзором капитана за столом. Теперь захотелось пить по-настоящему. Есть не хотелось. Я попросил воды, и шепот, разговоры, шевеление с нашей стороны решетки стихли. Поднялся со скамейки сержант, посмотрел на меня грустно:
— Вода тебе больше не понадобится. Дадут, конечно, немного во дворе. И закурить дадут.
— А в туалет?
— В туалет можно. Чтобы не вонял.
Щелкнул замок, другой сержант передернул затвор и навел ствол на чеченов, а мой сопровождающий провел меня по коридору, открыл дверь туалета. Смердящий унитаз и обрешеченное окошко. Я справлял нужду медленно, от всей души. На обратном пути он пнул меня сзади. Я обернулся, и тогда он дал мне прикладом по плечу.
— Ты ссы, а головой не верти.
Перед обезьянником он спросил капитана: «Кто это?»
— Шпион.
— С той стороны?
— С этой. Документы паленые. А вообще, кажется, журналист.
— Значит, шпион. Паленые, не паленые.
— А плечо смотрели?
— Нет там ничего.
— А жаль. Больно он на хохла смахивает.
— Не. Питерский. Якобы.
— Ну, ладно. И там всякой сволочи полно.
Потом он ударил меня сапогом сзади, и я влетел внутрь обезьянника.
А потом выпал фарт. Меня отправили в камеру, где я провел неделю. Это оказался одиночный какой-то закуток. Никто меня не опускал и не лечил. Только вот пайка скудная. Конвой больше не бил. Но, вынося парашу — ведро с крышкой, я наблюдал, если повезет, все прелести быта этого учреждения. Припасы мои вместе с одеждой лишней и часами давно числились изъятыми. Бог с ними. Потому что через неделю начались допросы.
Кабинет был маленьким и душным. Как этот капитан здесь работает сутками — уму непостижимо. Конвейер допрашиваемых — отморозки ваххабитские, дезертиры, пленные, праздношатающиеся и товарищи по работе, с бумагами и просто так. Глаза у капитана красные, с отражением бессонницы, крепчайшего чая, коньяка, и шестижильное терпение прет ото всюду. Участь белого человека.
— Фамилия, имя, отчество.
— Перов Андрей Иванович.
— Место жительства.
— Ленинград, улица Ударников, дом два, квартира шестнадцать.
— Место работы.
— Журналист.
— Какой газеты?
— «Городские ведомости».
— Зачем поехали в Чечню?
— В служебную командировку.
— Аккредитация есть?
— Надеюсь получить на месте.
— Цель командировки?
— Сбор материалов о питерских гражданах на войне.
— Конкретно.
— ОМОН, ВВ, армия.
— И где?
— Что где?
— Где вы их хотели найти?
— Земляков?
— Их самых.
— На месте определиться.
— Ага.
— Что — ага?
— А то и ага. Где такие красивые документы сделал?
— Не понял.
— Паленые они. Паспорт твой и ты — это ты. А командировка, удостоверение, аккредитация в правительство СПб — паленые. Вот факс из газеты. Номер удостоверения зарегистрирован за неким Великосельским, коллегой их, погибшим недавно. Знали такого?
— Федя, друган мой был.
— И что? По местам боевой славы решил отправиться? Журналистское расследование проводить?
— Нет.
— Документы как сделал?
— Да что их делать. Доллары делают, а тут штампики дурацкие.
— Сделано мастерски. Деньги платил?
— Портвейном рассчитался.
— Ладно. Допускаю. Приключения ищешь?
— Нет. Человека.
— Какого?
— Женщину.
— Какую?
— Свою.
— Где она?
— В Грозном жила.
— И я там жил.
— Поздравляю.
— Ты дурак?
— Наверное.
— В каком районе жила?
— Черт знает.
— А ты был там?
— Был.
— И где это?
— Там сад.
— Что, дерево и памятник?
— Нет. Сад абрикосовый, гастроном, аптека.
— Улица какая?
— Свечная.
— Нет такой улицы.
— Свечная. Или Стеариновая.
— Парафиновая, может?
— Точно. Рядом. А та — Индустриальная.
— Что точно?
— Парафиновая.
— Или Индустриальная?
— Индустриальная.
— Трамвай какой?
— «Двойка».
— А может, «шестерочка»?
— Нет, «двойка». Я на нем ездил.
— Куда?
— На Центральный рынок.
— Зачем?
— За елкой.
— И за Микки-Маусом?
— Новый год был.
— Какой?
— Не помню. До войны.
— До которой?
— До первой.
— А потом что?
— Потом я брошюрку прочел.
— Какую?
— Про зверства боевиков.
— И что? Подумал еще года три и поехал?
— Нет. Сразу и поехал. Когда Федю привезли и омоновец мне его документы передал.
— Как фамилия, при каких обстоятельствах?
— В «стекляшке». Водку пить со мной побрезговал. А потом сказал, где Федя лежит.
— И где он лежит?
— Лежал. В Военно-медицинской академии. В морге.
— А что же не выпил с ментом?
— А для него журналисты хуже жидов. Выродки.
— Мудро. И что Федя?
— Со следами пыток и спермой в кишках.
— Как и следовало ожидать. Масюк не знаешь?
— Нет. Питер город периферийный, областной.
К тому времени пошли седьмые сутки моего содержания под стражей. Мне все уже осточертело. За неделю дважды водили на прогулку. Одного. Запросы сделаны, личность идентифицирована, осталось решить — то ли пинком под задницу, то ли еще попрессовать на нарах для профилактики.
— Как тебе условия содержания?
— А почему одиночка?
— Чтобы не общался ни с кем. Ты же шпион.
— Я?
— Ну не я же.
— Чем докажете?
— А я доказывать не буду. Я тебя расстреляю.
— За что?
— За подозрение в шпионаже. Может, ты и честный дурак, но у нас время дорогое крадешь. Так что заслужил. Верующий?
— Вопрос веры слишком личный.
— Ты его для себя реши. И пойдем со мной.
— Куда?
— Там увидишь.
Мы вернулись в мою камеру. Капитан присел на нары рядом, вынул пачку сигарет, предложил мне.
— Не курю.
— Тем лучше.
Расстегнув папку, он достал плоскую фляжку, отвинтил крышку, дал мне хлебнуть. Коньяк оказался хорошим, и меня пробрало сразу.
— Еще желания есть?
— Нет.
— Ну, тогда будь мужественным. — Он расстегнул кобуру и вынул свой «Макаров».
— Что, в камере? — принял я условия игры, но отчего-то не очень уверенно.
— Везти тебя куда-то, конвой беспокоить. Ты не думай. У нас это в порядке вещей. Война. Потом приберутся. Кровь замоют.
— А я?
— А ты как бы попал под случайную пулю. Боевика.
Потом капитан встал, отошел к двери, прицелился.
Я смотрел в черный дульный срез.
— Боишься?
— Нет. — Я знал, что он не выстрелит. Он просто спрятал пистолет и отметелил меня сапогами, сбросив с нар. Потом оформил документы, и уже ефрейтор вывел меня на улицу.
— Можно было бы тебе статью триста семь, часть первая.
— Это что?
— Подделка документов. Да мест на нарах маловато. Убийц везут каждый час. А тут ты, дурачина.
— Можно вопрос?
— Только быстро.
— Форма девять и форма семь.
— Справка вместо паспорта. Семь — беженец. Будешь изготавливать?
— Нет. Вы же мне общаться не дали с людьми.
— Чтобы ты потом про ужасы Чернокозово сочинял? Запомни: твой самый большой ужас — это я. Еще раз попадешься, отдам педерастам, а потом сожгу живого в овраге. И друзьям своим — журналистам — передай. Пусть займутся общественно-полезным трудом. Терпение армии не безгранично.
— Я передам.
Он ушел, и появился прапорщик.