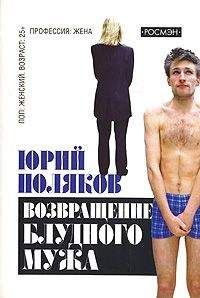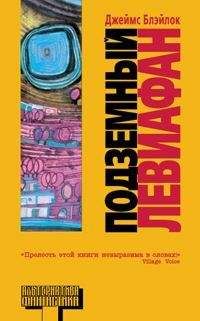Однажды ночью, это было в тридцать восьмом году, к нам постучали в окно. Мать впустила в комнату мужчину с перевязанной рукой. Я знал его. Он работал кузнецом на Подзамче, часто приходил к отцу, они надолго уединялись в кухне. Мать в такие минуты тревожно посматривала в окно и хваталась за сердце, как только в коридоре раздавался звонок или у наших дверей слышались чьи-то шаги… Так вот. Ночной гость показал матери небольшую фотографию. Мать взяла ее и заплакала. Кузнец сидел у нас до рассвета и тихо разговаривал с матерью.
Через несколько дней я нашел ту фотографию, она была вложена в книгу, Узнал на ней отца. Таким он и запомнился мне больше всего: в берете, в клетчатой безрукавке, с пистолетом на поясе. Рядом с ним стояли люди, тоже странно одетые и с оружием. Один держал в руках знамя, на развернутом полотнище четко выделялись слова: «За вашу и нашу свободу!» Только много лет спустя я узнал, чье это было знамя и через сколько земель пронес фотографию раненный в Испании боец Интернациональной бригады, львовский кузнец с Подзамче, которому чудом удалось избежать французских концлагерей и вернуться в родные края.
А отец не вернулся. В Интернациональной бригаде он был командиром взвода и погиб под Гвадалахарой. Через год не стало матери. У нее было больное сердце. Меня взял к себе ее брат. Детей у него не было. Он, его жена — вот и все семейство. Жилось мне там неплохо. Дядя работал сначала в Бориславе на нефтепромысле компании «Стандарт ойл», а затем — во Львовской «политехнике». В молодости ему удалось закончить Варшавскую академию. Для украинца из бедняков это было почти несбыточной мечтой. Но дяде посчастливилось. На его недюжинные способности обратил внимание польский профессор Пилляр, известный химик и знаток нефтяного дела. Со временем профессор взял к себе дядю своим ассистентом. Бульварные польские газетки начали было травлю преподавателя-украинца. Но вскоре умолкли. Пилляр дал им бой. Старого профессора знал весь научный мир, с ним приходилось считаться…
Я не раз видел Пилляра у дяди. Жаль, что мне в студенческие годы уже не пришлось слушать его блестящих лекций. Гитлеровцы расстреляли профессора под стеной городской цитадели в 1941 году вместе с группой львовских ученых…
Когда фашисты ворвались в город, дядя почти перестал выходить из квартиры. Дни и ночи просиживал в своем кабинете. Он не хотел замечать, что творилось вокруг. Изредка к нему наведывались знакомые, чаще других приходил его старый коллега еще по академии. Как только начинался разговор о положении на фронте или о «новом порядке», заведенном гитлеровцами на оккупированной территории, дядя всегда обрывал его одной фразой: «Политикой не интересуюсь, у меня свои заботы». Действительно, он работал много и напряженно. Еще в Бориславе, задолго до 1939 года, начал какие-то исследования, потом продолжал их во Львове, время от времени выезжая на нефтепромыслы.
Дядя был неразговорчивый и нелюдимый всегда. В годы оккупации он замкнулся в себе еще больше. Многого он не понимал. Да что говорить. Человек был далей от борьбы, от всего того, чем жили мой отец и его друзья, Дядя тешил себя мыслью, что наука есть наука и при любых обстоятельствах его домашняя крепость — кабинет — останется неприкосновенным, надо только ни во что не вмешиваться. Даже гибель Пилляра не рассеяла его иллюзий. Он считал это лишь трагическим недоразумением, тяжелой случайностью войны.
Работал дядя по шестнадцати часов в сутки. Так уж было заведено, что кофе и завтрак я носил ему в кабинет. Войду, бывало, поставлю молча на стол чашку и тихонько выйду. Не мешал ему, и он был доволен. Но как-то вечером я нарушил установленный порядок, принес ему бутерброды и вдруг спросил, что он чертит и пишет по ночам. К моему удивлению, дядя не рассердился. Возможно, он устал и хотел отдохнуть, а может, ему просто захотелось поделиться с кем-нибудь своими планами. Он взял меня за плечи и подвел к чертежной доске.
История загадочных кладов нефти, их фантастическая неприкосновенность не на шутку взволновали мое детское воображение. Дядю будто подменили. Он разговорился, рисовал все такими яркими красками, с таким увлечением, что я сидел как завороженный. Передо мной открывался таинственный мир подземного сказочного мертвого царства, которое ожидает своего храброго Ивана-царевича. Не знаю, может, как раз в те минуты я и стал нефтяником, — улыбнулся Бранюк. — Потом дядя долго и терпеливо объяснял мне чертеж, втолковывал, как будет действовать каждая деталь аппарата, который он конструировал много лет, начав еще там, в Бориславе. Далеко не все из того, что я услышал, было мне понятно, и все же мое сознание впитало главное: тайны нефтяных пластов для этого человека уже не существует!
После того вечера время полетело быстрее. В школу я не ходил, дружить с ребятами жена дяди мне запрещала. Она всего боялась, держала меня взаперти. И вдруг у меня нашлось занятие. Я уже смелее открывал дверь дядиного кабинета. Иногда молча наблюдал, как он работает. Иногда помогал ему — затачивал карандаши, резал бумагу… Так прошел еще один год.
Город голодал. Из квартиры вынесли почти все, что было ценного, и продали. Но, как и раньше, дядя ни на что не обращал внимания. Настроение у него было приподнятое, он завершал работу, которой посвятил двенадцать лет жизни.
Немцы чувствовали себя в городе неуверенно. Уже слышалась далекая канонада. Приближалась линия фронта. И, как гром, на нас обрушилось несчастье. На рассвете в квартиру вломились гитлеровцы. Забрали все чертежи, рукописи, черновые записи. Дяде приказали одеться и увезли его. С тех пор мы о нем ничего не слышали.
Днем город освободили советские войска, линия фронта отодвинулась на запад, а инженер Ростислав Захарович Крылач — так звали дядю — со своим архивом исчез бесследно.
Бранюк вдруг умолк, прислушался.
В комнату донесся приглушенный отдаленный треск. Короткие отрывистые звуки, усиленные эхом в горах, повторились еще раз и внезапно оборвались.
— Стреляют, — с тревогой в голосе сказал Бранюк. — Слышишь, Юрко? На границе стреляют…
Полковник Шелест снизу вверх посмотрел на Петришина, невыразительно хмыкнул и отвернулся. Непонятно было, доволен он или, наоборот, разочарован и не одобряет мысли майора.
— С Вепрем ошибки не может быть, Терентий Свиридович, — упорно повторил Петришин. — Это он. И записка ему адресована. Но я не могу поверить, чтобы этот человек…
— Не верите? На психологию нажимаете? Нет, вы меня фактами убедите, фактами! — Полковник протянул майору маленькую записную книжку в синем переплете. — У меня факт вот здесь, в руке. С ним считаться надо. Так или нет, спрашиваю вас?
Они стояли друг против друга. Низенький, в сером костюме, Шелест едва доставал майору Петришину до плеча. В этом кабинете костюм полковника казался каким-то домашним и неуместным. Своей «штатской» внешностью Шелест совсем не похож был на человека суровой профессии. В нем трудно было узнать военного. Только четыре ряда орденских планок на лацкане его пиджака говорили о том, что первое впечатление может быть обманчивым.
За что и когда получал Шелест награды, знали не все. А майор Петришин знал. Они работали вместе уже несколько лет, и Петришин не обижался на старого полковника за его манеру иногда резковато выражать свои чувства.
Шелест еще раз хмыкнул, взял со стола и взвесил на руке тугую пачку денег, перевязанную шпагатом.
— Сколько?
— Двадцать две тысячи, — ответил Петришин. Его левая рука, обтянутая черной кожаной перчаткой, глухо стукнулась о подлокотник кресла.
Шелест поднял на майора глаза.
Петришин нахмурил брови, перехватив взгляд полковника. Майора всегда раздражало, когда обращали внимание на его протез.
После боя в Гнилом Яру Арсений Петришин вернулся из госпиталя с пустым рукавом гимнастерки. Писал рапорт за рапортом. Просиживал в приемных. Посылал письма в ЦК комсомола. Дважды ездил в Москву. И добился своего: оставили на границе. Правда, характер службы пришлось изменить. Он просился на заставу, но генерал, решавший его судьбу, покачал головой: «Нет. Пошлем на другую работу. Дело для вас новое, но не святые горшки лепят. Войдете в курс, узнаете что и как. Ничего страшного нет. Опыт придет, было бы желание».
В те дни и встретился Петришин со своим новым начальником Терентием Свиридовичем Шелестом. Тот только что прибыл из Берлина, где работал в аппарате советской военной администрации.
Как-то, зайдя к Шелесту домой, Петришин увидел в раскрытом гардеробе на вешалке аккуратно выглаженный мундир с погонами полковника Войска Польского. На четырехугольной фуражке с высокой тульей отсвечивал серебром одноглавый орел.
Заметив, что лейтенант обратил внимание на этот необычный в квартире полковника наряд, Терентий Свиридович как бы невзначай прикрыл дверцу шкафа.