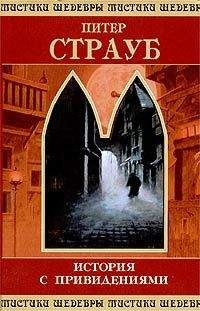Надеюсь, вы получите удовольствие от чтения «Шпионского тайника» – такое же, какое я получил от его написания. Отнеситесь к этому роману снисходительно и, пожалуйста, не судите меня слишком строго!
Питер Джеймс Суссекс
Бывает такое странное ощущение: ты знаешь, что в комнату кто-то вошел, но пока еще не видишь его и не слышишь. Ты просто чувствуешь: он здесь. Такое вот ощущение и возникло у меня тогда – ночью, в моей спальне. Было очень поздно и очень темно.
Я чувствовал это, такой же холодок, и раньше – тысячу раз в тысяче разных ситуаций: когда машину заносит на мокрой дороге, когда самолет проваливается на пять тысяч футов в воздушную яму, когда тень возникает из темного переулка.
В комнате определенно кто-то был. Не друг. Друзья не заскакивают ко мне в спальню в половине третьего ночи – в квартиру на тридцать втором этаже здания, где отключен лифт; в квартиру, ключ от которой лежит в кармане пиджака, висящего на спинке стула; в квартиру с тремя врезными замками «ингерсолл», двумя замками «чабб», йельским замком № 1 и двойной цепочкой, не говоря уже о круглосуточной вооруженной охране у двери, ввиду чего войти в здание труднее, чем выйти из большинства тюрем.
Гость не был другом. Я не шевелился. Он не двигался. У меня было перед ним одно преимущество: он думал, что я сплю. У него было передо мной еще большее преимущество: он не лежал, совершенно голый, вымазанный детским маслом, с прикованной к кровати ногой, и рядом с ним не спала голая пташка, занимавшая пространство в пять футов и одиннадцать дюймов, которое отделяло мою масляную руку от стоявшей на предохранителе «беретты».
Несколько десятых секунды я размышлял, что делать. Гость определенно не собирался задерживаться до утра – пойти на такое мог бы разве что завзятый вуайерист. Он явно не был и мелким воришкой – здесь не водилось драгоценностей, здесь не держали сокровищ, как в Форт-Ноксе или Национальной галерее. Здесь вообще не было ничего такого, что страдающий дальтонизмом карлик с коэффициентом Q 24 не мог бы купить за пару тысяч долларов на распродаже в «Блумингдейле», – вполне возможно, именно так он и сделал. Все, что здесь имелось, лучше всего характеризовалось термином «зачаточное еврейское Возрождение» и состояло из предметов личного обихода, которые можно встретить едва ли не в каждом номере недостроенного отеля «Холидей Инн».
Гость не был настроен и поболтать, потому что в противном случае уже подал бы вступительную реплику. Скорее всего, как я решил за две десятые секунды, пока взвешивал возможные варианты, он пришел сюда кого-то убить.
По причине скудости выбора наиболее подходящими кандидатами в жертвы выглядели мы, Сампи[1] или я. Прозвище Сампи я дал ей из-за пристрастия к маслу «Джонсон беби», которое, как она полагала, предназначалось для секса, а вовсе не для того, для чего изначально создавалось.
Если ночной гость пожаловал за ней, то это мог быть только какой-то брошенный любовник, а поскольку Гудини умер еще до ее появления на свет, то и этот вариант пришлось исключить.
Мне стало вдруг одиноко. К этому моменту ночной пришелец, должно быть, уже вычислил, кто есть кто; меня ждала пуля 9-го калибра из «парабеллума» с глушителем, ее – бритва, чтобы не разбудила соседей воплями.
Добраться до своего оружия я не мог. Развернуть и вскинуть правую ногу так, чтобы обрушить кровать на его голову раньше, чем придется собирать собственные мозги и осколки черепа в соседнем номере, не представлялось возможным.
Грянул выстрел. Не глуховатый хлопок вроде того, с каким пробка выскакивает из бутылки, но короткий, оглушающий взрыв боеприпаса «магнума» 44-го калибра с пулей весом в двести гран. И смерть пришла ко мне.
В жаркой темноте что-то большое и тяжелое обрушилось на меня, круша кости и вышибая дух. Мокрое, кровянистое, болезненное. Это был он, ночной гость.
Он лежал, раскинувшись, на мне – с торчащим изо рта револьвером и дырой в затылке, большая часть которого улетела на Парк-авеню.
Я сел и даже ухитрился включить свет. Отовсюду неслись крики, топот, вой сирен и треск звонков, стук. Сампи проснулась, не открывая даже глаз, спросила, не спятил ли я, и снова уснула.
Я высвободил ногу и побрел в кухню – поставить чайник. Все указывало на то, что поспать в эту ночь уже не получится. В полной растерянности я ударился головой о дверцу шкафчика. Да и как тут не растеряешься? Кто-то взял на себя немалый труд и изрядно постарался, чтобы всего лишь совершить самоубийство.
Ну и ночка выдалась. Утром мне больше всего хотелось забыть о ней хотя бы на несколько часов. А утро вышло славное – холодное, ноябрьское, воскресное, – Манхэттен выглядел грандиозно. Лишь несколько заводских труб пачкали ясную голубизну своими экскрементами. Всемирный торговый центр, Крайслер-билдинг, Эмпайр-стейт и прочие фантастические манхэттенские громадины четко, словно выгравированные, проступали на фоне неба – в полном соответствии с представлениями их творцов.
Мы с Сампи зябко кутались в пальто на открытой палубе статен-айлендского парома. Внизу нес свои бурливые воды Гудзон. Я откусил приличный кусок завернутого в бумагу и еще теплого кныша с картошкой в надежде, что он хотя бы частично протрет мои прополосканные пинтами кофе внутренности и унесет изо рта, горла и легких вкус «Мальборо», «винстонов» и «салемов», «тарейтон лайт» и «кэмел лайт», «кулзов», «морзов» и «честерфилдов», а также всех прочих сигарет, слямзить, стянуть и выкурить которые мне довелось за прошлую ночь.
Кныш был хорош и происходил из пекарни Ионы Шиммеля, одного из лучших заведений своего рода в мире. Если бы ресторанный путеводитель «Мишлен» распространился и на Соединенные Штаты, он, несомненно, отметил бы ее как «заслуживающую того, чтобы сделать крюк». Тот, кто там не бывал, обязан исправить это упущение. Примечательно, что неприметная с виду пекарня расположилась в одном из самых грязных, унылых и запущенных районов, в самой глубинке Манхэттена, на богом забытой границе между Ист-Виллидж и Нижним Ист-Сайдом, на расстоянии полета бутылочной пробки от Бауэри-стрит, в пятиэтажке из бурого песчаника с желтым карнизом, стоящей по соседству с двориком компании «Блевицки бразерс моньюментс», где за просевшим проволочным забором отдыхают на ослабших подвесках два старинных вагончика. Мрачная, с двусторонним движением улица отмечена редкими чахлыми кустиками, люди здесь угрюмые и неопрятные, и ветер гоняет туда-сюда неубранный мусор. Отыскать такую нетрудно в любом пригороде любого из сотни американских городов.
Вид внутри немногим лучше. Табличка за высокой стойкой приглашает клиента отведать «НАШ НОВЫЙ ВИШНЕВЫЙ ЧИЗКЕЙК-КНЫШ!» и выглядит лет на десять. За стойкой – пожилой коротышка в белом фартуке держит на плечах бремя всего света. В заведении пусто, если не считать занятых разговором двух мужчин в потертых кожаных куртках, но выполнить заказ коротышка не торопится. Он чинно идет к «немому официанту», настоящему, с канатным механизмом, рявкает в шахту и замирает на страже с несчастным видом часового, оставленного на посту в долгую зимнюю ночь.
Но то, что приносит грузовой лифт, – это уже слитки чистого золота. Большие, увесистые, душевно бесформенные, снаряженные всеми мыслимыми начинками, неимоверно жирные и погрязшие в холестерине.
В то воскресное утро райский дар, теплый картофельный кныш Ионы Шиммеля, был употреблен с солеными брызгами Гудзона и уютным парфюмом Сампи.
Правду от нее я пока что утаил. В ее понимании ночью к нам вторгся непрошеный гость, которого я и застрелил. На мой взгляд, менять эту версию пока что – а может быть, и вообще – не стоило. Сампи свято верила, что я совершил нечто героическое и спас нас обоих от верной смерти. Принимать незаслуженные почести я не собирался, но в то же время девочка Сампи сообразительная, и мне не хотелось, чтобы она забивала голову лишними мыслями, если в какой-то момент поймет, что за моей работой в компании, производящей пластмассовые ящики, кроется нечто большее, чем видится обычному невооруженному глазу. Это было бы совсем нехорошо.
Итак, мистер Большой Герой отхватил еще один кусок картофельного кныша и нацелился долгим взглядом на прелести и мерзости сонного Статен-Айленда, где в это ясное солнечное воскресное утро 328 тысяч американцев начинали день с кроссворда в «Нью-Йорк санди Таймс», вафель, сиропа и бекона, мягкого секса, зубной пасты и кофе и без громыхания мусоровозов.
– Холодно, – сказала Сампи и ничуть не погрешила против истины.
Да, холодно, чертовски холодно, но было это только к лучшему, потому что в тепле захотелось бы расслабиться и, поддавшись неге, уплыть в страну сновидений, а ничего такого не светило еще долго, поскольку по возвращении в Манхэттен мне предстояло отправиться в полицейский участок на Западной Пятьдесят четвертой и провести большую часть этого прекрасного дня за унылыми серыми стенами, отвечая на вопросы, заполняя всевозможные бланки и наблюдая за перемещаемыми туда-сюда отбросами, браком и жертвами человечества, доставленными за превышение скорости, убийство, карманную кражу, хулиганство или изнасилование.