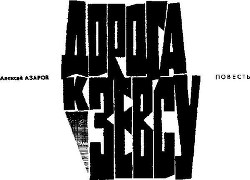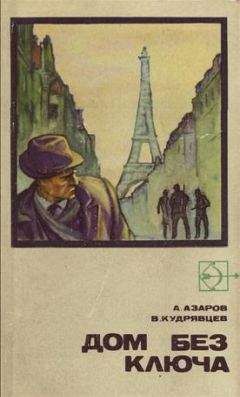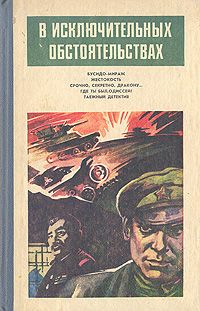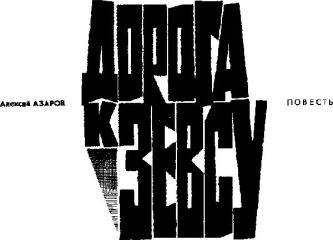— Бедная Магда, — говорит Анна и роется в сумочке. — Вот, возьмите, Франц. Вы решили совсем не бывать у нее? Что же, так, пожалуй, правильно: нам надо держаться подальше от дезертиров… Значит, до получки, Франц!
Что ей Гекуба, что она Гекубе! Я заталкиваю в портмоне пять неопределенного цвета бумажек и чувствую себя президентом Рейхсбанка. Кризис преодолен, и жизнь продолжается, и все не так уж плохо… но Магда!.. Ругая себя за слабоволие, я иду к метро. Я знаю, что мне нельзя туда ехать, однако воображение рисует Магду, одиноко сидящую на кухне — глуповатую и добрую старуху, беспомощную перед лицом беды… Внутренний голос — парламентская оппозиция Одиссея — твердит мне, что, помимо сочувствия к одиноким старухам, на свете существует благоразумие, но я беспощадно расправляюсь с оппозицией, а заодно и со здравым смыслом. Сдается мне, что я перестану себя уважать, если не загляну в квартиру Бахмана хотя бы на несколько минут.
Непоследовательность — один из многих моих недостатков. Среди других числятся лень, нерешительность и любовь к удобствам. Страшно подумать, что стало бы с Одиссеем, создай судьба условия для их развития! Обзавелся бы он халатом, качалкой и коротал дни свои за чтением многотомного романа Эжена Сю “Парижские тайны”… Впрочем, в данную минуту роман мне не нужен; мне нужны целые ботинки. И потом хотел бы я знать, куда подевалась моя “тень”? Я верчу головой, но не нахожу ее. Или Цоллер заменил наблюдателя более опытным, или же почему-то прекратил слежку. Во всяком случае, с самого утра я не ощущаю, чтобы кто-нибудь шел за Одиссеем по пятам, а на этот счет у меня неплохо развито некое восьмое или девятое чувство — не учтенное физиологами, но крайне необходимое таким скитальцам, как Одиссей.
В подъезде я не сразу поднимаюсь наверх, а останавливаюсь и выжидаю, не войдет ли кто следом. Со стены на меня глазеет Лорелея в партийной форме и с недовязанным носком в руках; подпись на плакате гласит, что помощь героям фронта не обуза, а радость. Рядом еще один плакатик, черный по белому, с адресом бомбоубежища. Я живо воображаю “героя фронта”, бредущего в плен в своем недовязанном носке, и Лорелею под сводами бомбоубежища, и думаю, что жизнь, в сущности, устроена справедливо…
Лифт не работает, и я поднимаюсь пешком. Днем в Берлине часто отключают электричество. Еще чаще нет горячей воды. Словом, как поется в одной популярной песенке, “нам очень хорошо и будем веселиться…”.
Стук двери наверху и громкие голоса отрывают меня от размышлений, а два огромных чемодана устремляются прямо на меня, заставляют прижаться к стене. Два чемодана из крокодиловой кожи и распахнутое манто. Резкий запах духов.
— Доброе утро, фрау…
Это соседка Магды, ее квартира напротив. Быстренько же она спустилась со своими крокодилами!
— А, это вы… Там нет такси на улице?
— Не заметил. Куда вы собрались?
— Так, к родственникам… Кстати, вы к Магде? Она уехала еще вчера. Бедненький, вы не знали?.. Все куда-нибудь едут… А вы?
— Куда уехала? — говорю я, игнорируя вопрос.
— Понятия не имею. Наверное, на родину, в Гессен. А что ей тут делать? Одна, и эти противные тревоги… Хотя что я говорю!.. Не поймите меня неправильно. Я имела в виду совсем другое: женщины — обуза для Берлина в момент, когда…
“Ну, ну! — поощряю я ее мысленно. — Договаривай. Ты хочешь сказать, что в Берлине небезопасно?” По-моему, со дня на день начнется великий драп. Официального решения об эвакуации еще нет, но поезда, уходящие в сторону Гессена, Тюрингии и Вюртемберга, набиты битком. Это еще не великий драп, но его начало…
Я беру один из чемоданов и выволакиваю его на тротуар. В утробе крокодила что-то звенит — фарфор, наверное. Муж Магдиной соседки работает у Геринга, в аппарате уполномоченного по четырехлетнему плану, и если он надумает драпать сам, то для барахла понадобится вагон, не меньше… Великий драп… Но Магда-то зачем подалась? Куда?..
Оттепель тепло дышит на меня, капает с крыш; солнечные желтяки отражаются в окнах и сосульках. В детстве я любил сосать сосульки, и случалось, отец порол меня за это. С тех пор я немножко постарел и уже не помню, какого они вкуса, пресные, наверное?
В ближайшей “локаль” я обедаю; я здорово голоден, но сосиски, в которых гороха больше, чем мяса, с трудом лезут в горло. Поколебавшись, я жертвую еще двумя талонами и получаю порцию тушеной брюквы. День тянется, не предвещая радости, и вынужденное безделье выбивает из равновесия. Впереди еще шесть или семь часов, распорядиться которыми я волен по своему усмотрению — вот только как?.. А не съездить ли к Моабиту?.. Я вычерчиваю зубочисткой на скатерти треугольники и ромбы, заключая в них пятна от пролитых соусов, и одновременно еду, сначала автобусом, потом метро, подхожу к газетному киоску, где на этот раз сидит не старик, а однорукий мужчина с усами. Он болел или уезжал, а теперь вернулся и продает как ни в чем не бывало газеты и открытки, меланхолично отсчитывая сдачу… Я ничего ему не скажу, куплю газету — и до пятницы. Волшебные слова имеют силу лишь по пятницам и вторникам. Но и без слов день обретает для Одиссея особый смысл и сделает его по-настоящему счастливым… А вдруг?!
Мне легко, и день тепел и приветлив. И метро — превосходная штука, созданная человеческим гением. Не успеешь и глазом мигнуть, как из центра попадешь на окраину. Айн, цвай грудь развернута, ноги вбивают в пористый, подтаявший снег ровную дорожку следов. Сосульки бахромой окаймляют сочленения водосточных труб. Мне хочется подпрыгнуть и отломать их, возвратиться в детство: короткие штанишки, рука отца на голове, пресный вкус льда…
Киоск. Фанерный щит с намокшими газетами. Старческое пришептьшание:
— “Ангриф”?
— Да, и последнюю “Дас шварце кор”.
— Тридцать пфеннигов.
В левом ботинке с омерзительным хлюпаньем свирепствует холодная вода. Пальто отяжелело от влаги и давит на плечи. Промозглая сырость преследует меня, не покидая в метро, и она же предпростудным ознобом трясет в темном зале “В.Б.Т.”, где, убивая время, я смотрю хроникальные ленты, два сеанса подряд.
Вечер застает Одиссея на Курфюрстендам слоняющимся возле разбомбленной Гедехтнискирхе. Развалины церкви привлекают меня надеждой отыскать под кирпичом молельную скамью и содрать с нее кусок кожи. Сумрак и отсутствие щупо поблизости придают мне смелости. Вооружившись куском водопроводной трубы, я отворачиваю смерзшиеся обломки и, потрудившись, нахожу искомое. Складным ножом вырезаю стельку, еще одну — в запас и в первом попавшемся подъезде утепляю прохудившийся ботинок… Как будто неплохо; во всяком случае, больше нет ощущения, что идешь по снегу босиком. И на том спасибо.
По пути в контору я покупаю хлебец, помня при этом, что в шкафчике у меня лежит пачка концентратов, а керосинка заправлена до отказа. Когда все уйдут, я сварю себе суп и славно поужинаю, набираясь сил перед утренним сражением с мусором. Кстати, надо похлопотать, чтобы купили новую метлу: моя совсем стерлась и ни на что не годится.
— О шварце Сони, ти-ри-ри-бам! — напеваю я, переступая порог конторы. — Майн либер Сони, тарам-пам-пам…
Немного позднее я позвоню Цоллеру. За день я убедился, что наблюдение снято, и теперь могу со спокойным сердцем утверждать, будто был вчера у Варбурга и говорил с ним о Фогеле… Но где советник? Со вчерашнего вечера его телефон молчит, хотя, помнится, Цоллер настаивал, чтобы после встречи с бригаденфюрером я не мешкал со своим докладом. Остается предположить, что Руди опередил меня. Белобрысый Руди, фактотум Варбурга.
Я вешаю в шкафчик пальто, достаю халат и, переодевшись, роюсь в ранце — отыскиваю котелок. Он куда-то запропастился, а я не факир и не умею варить суп в ладонях. О черт!
— Кого вы ругаете, Франц?
Фрейлейн Анна. Проскальзывает в кладовку и становится за моей спиной. Кладет руку на плечо.
— Господи, до чего вы холодный! Неужели гуляли целый день?
— И утро тоже, — говорю я.
— Но разве?..
Фрейлейн Анна обрывает фразу, а я как раз кстати нахожу котелок, и это, само собой, мешает мне расслышать неосторожно произнесенные слова: “А разве вы не виделись с Цоллером?” — так должен был звучать вопрос, не спохватись Анна и не прикуси язык.