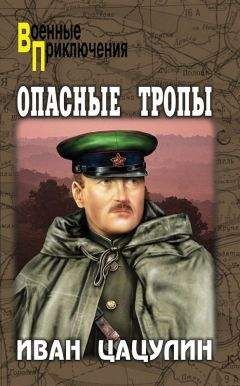Активное и настойчивое следствие привело Спорышева ва улицу Мицкевича — там, за тихим густым палисадником, в уютном домике он нашел наконец пани Ядвигу, оказавшуюся женщиной средних лет, вызывающе красивой, с несколько надменным выражением больших бледно-голубых глаз. Убедившись, что арестованная не спешит давать чистосердечные показания, Спорышев не стал тратить время на длительные беседы с ней: каждый час был слишком дорог. Некоторые обстоятельства из ее биографии натолкнули его на мысль прежде всего собрать о ней исчерпывающие сведения, и не только в Красногорске, но и по соседству, у польских товарищей. Мысль оказалась правильной, а результаты запросов таковы, что пани Ядвигу вместе со всеми материалами о ней немедленно отправили в Москву, куда ее и привезли в тот самый день, когда происходил известный читателю очередной допрос пана Юлиана.
Весь вечер просидел полковник Соколов за изучением присланных из Красногорска документов и уже на следующее утро вызвал арестованную на допрос. На этот раз он прекрасно знал, с кем ему придется иметь дело.
Полковник Соколов отодвинул в сторону папку с документами и погрузился в размышления. Стук в дверь заставил его очнуться: в кабинете появилась Ядвига Станкевич. По его предложению она опустилась в кресло перед столом, с подчеркнутым достоинством.
— Я требую освободить меня! — она гордо вскинула голову: полковник увидел глаза, полные слез, и скорбное выражение лица; подбородок женщины дрожал от обиды и сдерживаемых рыданий.
— Я ни в чем не виновата, поверьте мне, — заговорила она мягким, «от души», голосом. — Я вдова одного из героев освобождения Польши… Мои мать и отец, сестры и братья, мой муж пали в борьбе за освобождение Польши от гитлеризма… Потеряв все, я сохранила честь и все эти годы жила среди родственников моего любимого Яна. Я никогда никому не сделала зла… И вот меня хватают, бросают в тюрьму! За что? Или в нашей стране нет справедливости? За что со мной так обращаются?
— Разве с вами не беседовали, не сказали, за что вас арестовали? — вежливо спросил полковник Соколов.
Женщина сделала неопределенный жест.
— Какой-то бред… Я ничего не поняла. Какой-то сумасшедший, которого будто бы нашли в груде железной руды… Спрашивали о каком-то Смите, даже не объяснили, кто он такой. Я решительно ничего не понимаю, тут просто недоразумение. В юности я чудом, одна из всей семьи спаслась от карателей, а вот теперь меня не щадят…
— Вы напрасно волнуетесь, — сухо сказал полковник. — Если случилось недоразумение, мы исправим нашу ошибку. Я читал ваши показания майору Спорышеву, вы хотели бы что-нибудь добавить к ним?
Женщина пожала плечами.
— Н-нет… Еще раз заявляю вам, я ничего не знаю, ни в чем не виновата, не понимаю, что от меня хотят, за что меня преследуют… Я требую освободить меня, немедленно освободить!
Полковник холодно прервал ее:
— Надеюсь, вы не станете прибегать к истерике, — на губах его появилась насмешливая улыбка. — Мне некогда долго останавливаться на событиях из вашей биографии, да и не это сейчас меня интересует. Поэтому я должен буду в этом вопросе, так сказать, поставить точки над «i». Играть в прятки нет смысла — мы знаем о вас если и не все, то во всяком случае очень многое. Вы упомянули здесь о случайности, благодаря которой вам удалось спастись из рук гитлеровцев… Это было в сорок третьем году?
— Да.
— Так вот, никакого чуда, к сожалению, не произошло: семья польских патриотов Лещинских была полностью уничтожена.
Женщина страшно побледнела и протестующе подняла руку, но полковник, будто не замечая ее жеста, продолжал:
— Это прискорбный, но абсолютно достоверный факт.
— Кто же, по-вашему, я? — негодующе спросила женщина.
— И по-моему, и вообще вы — Инга Мейер, немка, родились и жили до войны в польском городе Гдыня, в те времена его называли Данцигом, вот почему вы отлично владеете польским языком, без акцента говорите на нем.
— Это слишком… Я советский человек! — вспыхнула женщина.
Соколов спокойно продолжал:
— Гитлеровцы решили воспользоваться этим обстоятельством, и вы, еще совсем юная, очутились на работе в гестапо.
— Матка бозка! — протестовала женщина, ломая руки.
— Прекратите эту комедию, — брезгливо поморщился Соколов. — Вам поручили сыграть роль юной польской патриотки, и, надо признать, вы выполнили задание неплохо… С документами Ядвиги Лещинской вам удалось проникнуть в ряды борцов за освобождение Польши. «Жертву гитлеровских карателей» приняли в партизанском отряде радушно, и вы приступили ко второй части вашей операции. Вам помогла ваша внешность. Командир партизанского отряда «Железный Ян», — в голосе полковника послышалось сожаление, — влюбился в вас, и очень скоро вы стали его женой, из Ядвиги Лещинской превратились в Ядвигу Станкевич. Пользуясь безграничным доверием и любовью Яна Станкевича, вы сумели заманить его в ловушку, и он попал в лапы гестапо, где и погиб вместе с несколькими своими товарищами. Вас снова послали к партизанам, однако вы предпочли на этот раз не рисковать — вы ведь отлично знали, что кое-кто из партизан вам не доверял и предупреждал «Железного Яна» быть с вами поосторожнее.
Тогда для вас было придумано другое дело — вас направили работать в один из лагерей уничтожения, начальником которого был садист Яльмар Крафт. Теперь вы стали женой Яльмара Крафта. О, вы были любящей и преданной женой нацистского негодяя — ведь у вас с ним было единство взглядов, симпатий, стремлений. В затее с посылкой вас в концлагерь крылась дьявольская провокация: вы, как и ранее у партизан, продолжали выдавать себя за женщину польской национальности и своим поведением как бы подавали пример другим женщинам-полькам идти по вашему грязному и подлому пути. Но вы перестарались — слишком уж чудовищные преступления творились в лагере уничтожения, чтобы вы могли послужить образцом для потенциальных предателей. Вы, наверное, и до сих пор с удовольствием вспоминаете о веселых днях, проведенных вами с гауптштурмфюрером Крафтом: не проходило дня, чтобы ваш возлюбленный не уничтожал заключенных. Помните — играл оркестр из заключенных поляков, евреев, русских, над залитой кровью землей разносились звуки Штрауса и под эту музыку вешали людей? А рядом в обнимку с гауптштурмфюрером стояла молоденькая женщина, его жена, выдававшая себя за польку, — это были вы.
— Ложь! Все это ложь! — вскрикнула арестованная. — Вы не имеете права верить клевете моих врагов. Я помню, как они возненавидели меня, — им казалось, что там, в отряде, я отняла у них любимого руководителя, они нашептывали на меня Яну, говорили ему разные гнусности обо мне…
— Не надо мелодрам, — сказал полковник Соколов. — Вы же понимаете: я не стал бы говорить об этом, если бы не располагал абсолютно достоверными документами. Так-то, Инга Мейер.
— Я не предавала его! — напряженно произнесла она. — Кто может свидетельствовать против меня? — Должно быть, она переменила тактику. — У вас нет свидетелей…
— У нас есть свидетель вашего предательства, — прервал ее Соколов.
— Где он?
— Он здесь, — спокойно сказал полковник, подвигая к себе папку с бумагами.
Она делано рассмеялась.
— Очередной донос все тех же моих недоброжелателей?
— Нет, — Соколов медленно покачал головой.
— Так кто же он? — в нетерпении вырвалось у нее.
— Ваш муж, обманутый и преданный вами «Железный Ян». — Полковник протянул ей фотокопию документа. Она в ужасе отшатнулась. — Да, да, ему удалось перед самой казнью переслать товарищам в отряд письмо, — оно у меня в сейфе, — в котором он сообщил и о том, кто вы в действительности, и о том, что его и других партизан предали на смерть и мучения вы, Инга Мейер, подосланная к ним под видом польской патриотки Ядвиги Лещинской. Ян рассказывает в своем письме о том, как тогда, в гестапо, вы окончательно сбросили маску, — ведь вы были уверены, что об этом никто не узнает и к ответу вас не призовут. Ян имел неосторожность полюбить вас и погиб, но в своем предсмертном письме он просил разыскать вас и наказать — смертью за смерть. Вот оно, это письмо, что же вы не читаете его?
— Нет, нет. — она съежилась в кресле, как от страшного удара. — Если то, о чем вы говорили, правда, за это меня могут судить только в Польше…
— Почему? Вы же не полька, а немка. И подданная вы не Польской республики, а Советского Союза. Но в данном случае я не хочу определять, кто именно должен судить вас за прошлые преступления, пока я говорил об этом исключительно с целью подвести черту под вашей биографией, — вы должны понять, что пытаться морочить нас ни к чему, мы знаем, кто вы.
— Чего вы хотите от меня? — она пыталась успокоиться, прийти в себя.
— Вы будете давать показания?