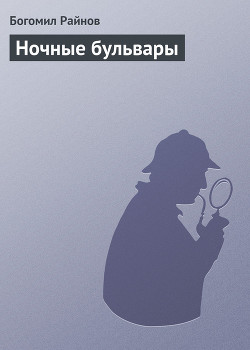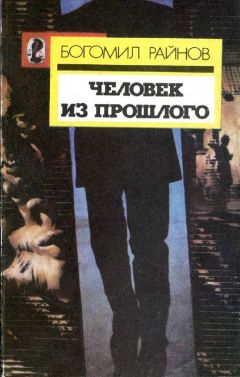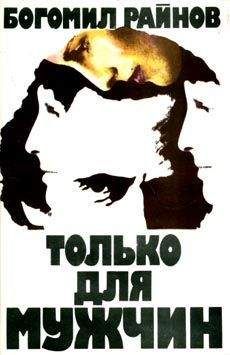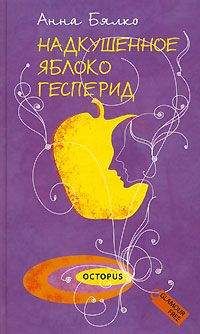— Вы и впрямь вызываете у меня всё большее отвращение, — устало произносит Мэри.
Потом на её лице снова появляется вызывающее выражение:
— Ну и что с того, если вы и валялись там с этой мерзавкой? Вы думаете, что таким образом поиздевались над Адамсом? Или возвысились до его уровня? Но вы никогда не подниметесь до него по той простой причине, что вы — воплощение серости и посредственности…
— Это ваше мнение меня нисколько не задевает. Могу даже сказать, что для меня серость — профессиональная маскировка.
— Да, знаю я ваш принцип: быть среди тех, кто не привлекает внимания и кого никто не замечает… Некоторым нужно долго тренироваться, чтобы добиться подобного умения искусно маскироваться, но вам это далось даром, вы ведь по натуре сама безликость. У вас серые не только одежда и манера поведения, но и чувства, если они вообще у вас есть. В этом мире жадных псов вы обыкновенный голодный пёс, в этом мире подлецов вы обыкновенный средний подлец, вы средний служащий, средний карьерист и средний рогоносец…
Она начинает мне немного действовать на нервы, эта женщина, и я, вероятно, бессознательно слегка приподнимаюсь, потому что она произносит:
— Хотите меня ударить?
— Нет, я испугался, что вы упадёте, — бормочу я, овладев собой.
Я снова опускаюсь на постель, а Мэри садится напротив, словно обессиленная злобной выходкой. Но она ошибается, воображая, что тайм окончен.
— Если уж вы заговорили о посредственности, — начинаю я невозмутимо, — то хотел бы заметить, что любой человек среднего ума, усвоивший некоторые правила хорошего тона, кажется вам интересным и даже приводит вас в восторг. К примеру, Адамс или наш общий начальник — посол. Один — общительный, откровенный, добряк, в общем, вроде вашего мужа. Другой — благородный, воспитанный, важный. А оба они те самые посредственные ничтожества, о которых вы только что так вдохновенно говорили. Однако вы не в состоянии это понять по одной-единственной причине: вы сами полное ничтожество!
— Говорите, не стесняйтесь, — бормочет Мэри. — Вы меня ничем не удивите.
— Я и не собираюсь вас удивлять. И вообще, если вы хоть немножко дорожите истиной, соблаговолите слезть с пьедестала, на который вы сами взобрались…
— Ни на какой пьедестал я не взбиралась.
— В таком случае с высоты каких личных качеств вы позволяете себе судить меня, окружающих и всю эту проклятую жизнь, как вы выражаетесь? Для вас я ничтожество, подлец, преступник… Чудесно, спасибо. А вы-то сама кто? Мученица? Жертва Центра, окружающих, бывшего мужа и меня. Но если бы вы перестали упиваться своими страданиями, то осознали бы, что ни на йоту не превосходите тех, кого считаете своими мучителями. Вы очень строго судите своего мужа за то, что он толкнул вас на подлость… Однако вы совершили, эту подлость и, возможно, сделали это с большим удовольствием, потому что тот сатир в некоторых отношениях превосходил вашего мужа, а эта подлость вам так понравилась, что вы не раз совершали её опять и опять и к тому же доставляли себе ещё одно удовольствие — насмехаться над собственным мужем…
— Перестаньте! — говорит она тихо.
— Не волнуйтесь, сейчас перестану, — успокаиваю её я. — Хочу вам только сказать, что вы почти так же поступаете и со мной; если вам внушает какие-то сомнения эта история с генералом, если вы считаете меня посредственностью и подлецом, то ведь это не со вчерашнего дня, однако это отношение ко мне не помешало вам взять меня в любовники — раз не получается с Адамсом, так и средний подлец, может, на что-то сгодится…
— Перестаньте… Прошу вас, перестаньте! — снова шепчет она, но этот шёпот звучит почти как крик.
Она отодвинулась в другой угол и откинула голову назад, словно она задыхается или готова зарыдать.
— Как хотите… — соглашаюсь я.
Однако эти слова не означают отступления. Решив унизить её до конца, я поднимаюсь, обхватываю её обеими руками, точно хочу не обнять её, а задушить.
— Отстаньте, отстаньте, не прикасайтесь ко мне! — почти кричит она, отталкивая меня.
Но я ещё крепче обнимаю её, и она напрасно вырывается, потому что позади неё угол купе, и напрасно бьёт меня в грудь руками, потому что я всё плотнее прижимаюсь к ней. Я грубо валю её на полку и овладеваю ею, хотя она начинает истерически рыдать от бессильной ярости, боли и унижения, что усиливает моё удовольствие победителя.
Лицемерка.
* * *
То ли оттого, что я бывал в Стамбуле, то ли оттого, что у меня много работы, но город не производит на меня впечатления, ни его пёстрая толпа, ни Золотой рог, а единственное, что я помню о том утре, так это — жара. Да, погода была теплее, чем хотелось бы.
Мэри кажется совершенно разбитой, но какой-то успокоенной или просто безучастной, и я оставляю её в отеле, в двухкомнатном номере-люкс, — она мне пока не нужна.
Беру такси, показываю шофёру визитную карточку с написанным на ней адресом, и мы едем в незнакомое мне место. Проплутав довольно долго по кривым улочкам, выезжаем за город на дорогу, по обеим сторонам которой утопающие в зелени виллы. Наконец машина останавливается перед высокой железной оградой, сквозь которую видны кусты экзотических растений.
Вылезаю из такси, подхожу к внушительной металлической двери и нажимаю на медный звонок. Дверь, очевидно, снабжена невидимым наблюдательным устройством, поскольку через минуту она сама отодвигается и открывает передо мной длинную, посыпанную мелким гравием аллею, ведущую к изящной белой вилле в тени больших деревьев.
Человек, который стоит на широкой террасе и спокойно смотрит на меня, мне не знаком, но это не мешает мне сразу же догадаться, что это не лакей, а хозяин виллы. Не очень большого роста, но если говорить о весе, то его можно отнести к тяжеловесам. И всё-таки он выглядит не столько полным, сколько плотным, крепким и я бы добавил, косматым, как кокосовый орех.
Он предупреждён о моём приходе, однако смотрит на меня абсолютно безучастно, и когда я поднимаюсь на несколько ступенек по лестнице террасы, он не делает ни шага навстречу мне, и приходится совсем близко подойти к нему, чтобы, наконец, он проявил признаки жизни и лениво подал мне руку.
— Господин Томас?
— Да, шеф.
— Сядем вон там.
Полная рука делает ещё один ленивый жест, указывающий на другой конец террасы, где натянут широкий тент в белую с синей полоску. Когда мы садимся на два удобных садовых стула, хозяин хлопает в ладоши.
— Принесите нам чего-нибудь прохладительного, — приказывает он мгновенно появившемуся слуге в белой униформе.
Затем некоторое время он молчит, словно решив не утомлять себя разговором до того, как освежится напитками.
Я тоже молчу, рассматривая украдкой полное лицо, красное, точно он чересчур долго лежал на солнце, окаймлённое рыжеватыми бакенбардами и редкими волосами.
Слуга, хотя и прибежал на зов, когда по восточному обычаю хлопнули в ладоши, — несомненно, представитель англосаксонской расы и космополитического сословия официантов. Он быстро и ловко подаёт нам неизменное виски со льдом и незаметно исчезает за широко открытой стеклянной дверью виллы.
— Расскажите мне сначала о вашем плане, — предлагает шеф, после того как мы принимаем взбодряющую дозу.
Я рассказываю. Он слушает, не сводя с меня серых внимательных глаз. А когда я заканчиваю, произносит:
— Я не понял из ваших слов, привели ли вы уже в действие ваш механизм или только собираетесь.
Этот «кокосовый орех» прекрасно всё понял, и цель его замечания — поставить меня в неловкое положение и напомнить, что я не имею права осуществлять какие бы то ни было операции на свой страх и риск.
— Я проделал пока только часть подготовки, — вру я, глядя на него честными глазами. — Ту её часть, которая не связана с особым риском и позволит нам сэкономить время.
Шеф продолжает смотреть на меня ничего не выражающим взглядом, не подавая виду, что обнаружил в моём лице отъявленного лжеца.