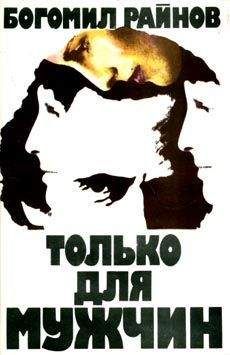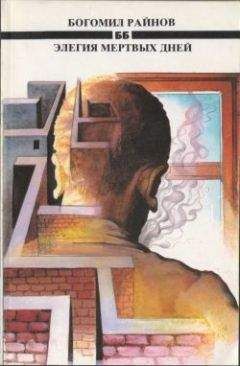Я отправляюсь на Дрейк-стрит не только потому, что там мое рабочее место, но и по той причине, что Ларкин направляется туда же, мне ничего другого не остается, кроме как идти за ним следом, соблюдая известную дистанцию. Добравшись до нашей тихой, романтичной улицы, американец, естественно, сразу же направляется в главную квартиру, в то время как я прохожу мимо и усаживаюсь на скамейке в скверике. Причем усаживаюсь не на сиденье, а на спинку, как это делают мальчишки, — сиденье еще не высохло после прошедшего ночью дождя. Кутаясь в плащ, я смотрю вдоль аллеи, хотя на ней нет ничего заслуживающего внимания, даже вездесущих мальчишек и тех не видно. Они, наверное, в школе, а может, матери запретили им выходить на улицу в такую погоду.
Бесцельное созерцание нарушает дама в коротком бежевом плаще, с размалеванным лицом довольно спорной красоты и довольно сомнительной молодости. Она бросает на меня беглый взгляд и тут же виновато отводит глаза в сторону. Она, вероятно, знает меня в лицо, как и я ее, — мы не раз встречались с ней в районе Дрейк-стрит. Я запомнил ее не потому, что она виновато отводит глаза, возможно, у нее связаны со мной не очень приятные воспоминания.
Впрочем, раз уж речь зашла о воспоминаниях, то для меня первая встреча с ней окончилась весьма печально. Даму эту зовут Кейт. Это в ее номере меня так классно отделали ее дружки в день моего дебюта. Да, Кейт неизменно отворачивается с виноватым видом, что, конечно же, само по себе неплохо и говорит в ее пользу, но я вдруг вспоминаю нечто более важное: дебютировал-то я в начале апреля, а сейчас уже начало октября. Значит, понадобилось целых шесть месяцев, чтобы как-то разобраться в истории, конца которой еще не видно и нельзя сказать с полной уверенностью, каким он будет, этот конец.
Занятый подобными мыслями, от которых с профессиональной точки зрения нет абсолютно никакой пользы, я сижу до тех пор, пока не начинаю чувствовать, что мой плащ впитал в себя слишком много влаги. Спрыгнув со скамейки, я направляюсь в сторону Дрейк-стрит. Намерения у меня весьма несерьезные с профессиональной точки зрения: меня потянуло в эту собачью погоду выпить чашку горячего кофе у мистера Оливера. Но в последний момент судьба распорядилась иначе.
— А, мистер Холмс! — радушно восклицает шеф при виде меня. — Как идет расследование? Я подозреваю, что вы готовитесь преподнести мне дьявольски интересное раскрытие.
Он, само собой разумеется, подозревает совершенно противоположное и явно намерен как следует поиздеваться надо мной и над моим провалом. Его хорошее расположение духа говорит о том, что он весьма доволен недавней встречей с американцем.
— Боюсь, мистер Дрейк, что вы правы, — отвечаю я с соответствующим случаю выражением озабоченности. — Раскрытие действительно интересное, но вместе с тем весьма неприятное.
Улыбка медленно сходит с лица Дрейка, и, предугадав, что ему потребуется средство для укрепления душевных сил, он выбирается из-за письменного стола и делает несколько не совсем уверенных шагов в сторону передвижного бара.
— Чего же вы ждете? Хотите, чтобы я получил разрыв сердца? — спрашивает меня Дрейк довольно спокойным голосом, беря в руку бутылку «Баллантайна». — Говорите, черт возьми!
— Я бы предпочел, чтобы вы послушали их, — отвечаю я и, достав из кармана пресловутый аппарат, включаю магнитофон.
Запись, конечно, далеко не образцовая и не очень громкая, но это не мешает Дрейку по достоинству оценить смысл реплик, которыми обмениваются между собой Ларкин и Мортон. Причем смысл этих реплик настолько поглощает его внимание, что он даже забывает налить себе традиционную дозу виски. А это можно считать случаем уникальным.
— Чертов янки, — бормочет он вполголоса, когда запись кончается. — Он мне за все заплатит…
— Под конец Мортон еще раз обозвал вас старым дураком, — уточняю я, чтобы подлить масла в огонь. — Но Ларкин возразил ему и сказал, что вы не дурак, а мошенник и подлец.
— Бросьте вы эти художественные детали, Питер! — прерывает меня Дрейк. — Могу заверить вас, что мне не требуется допинг.
Он наливает себе двойную дозу виски и небрежным жестом предлагает мне последовать его примеру. Сделав два больших глотка, Дрейк поворачивается ко мне.
— Ну, чего же вы молчите? Когда я не желаю вас слушать, вы болтаете без умолку, а когда надо говорить, молчите, как пень. Я жду ваших комментариев.
— По-моему, все ясно и без комментариев, — говорю я и встаю, решив, что мне тоже не худо «заглянуть в бар». Взяв в руки темно-коричневую бутылку, я лаконично бросаю:
— ЦРУ.
— ЦРУ? А почему не «Интерпол»? — спрашивает шеф.
— ЦРУ или «Интерпол» — какая разница. Это не меняет ситуации, — замечаю я, наливая себе виски. Но если бы это был «Интерпол», все было бы кончено уже после отправки первой партии, а мы бы давно сидели за решеткой.
— А чего, по-вашему, добивается ЦРУ?
— Большого скандала. Политической сенсации. А чтобы сенсация и скандал получились погромче, отправленная нами партия должна быть посолиднее. Вы слышали, что сказал господин Мортон: «Не меньше десяти килограммов героина». Потом устроят засаду в условленном месте, конфискуют наркотик, поднимут шум в печати, обвинят коммунистов, что они хотят отравить свободный мир. А самое интересное то, что все это оплачивается деньгами из вашего кармана.
Дрейк некоторое время молчит, обдумывая мои слова.
— Похоже, что так оно и есть, — соглашается он. — Или приблизительно так. Во всяком случае, ловушка налицо. А ведь только сейчас этот чертов янки убеждал меня, что нужно перейти к отправке крупных партий, брал на себя обязательства немедленно сбыть все за океаном.
Дрейк решительно выливает в горло остаток виски и, устало откинувшись на спинку кресла, погружается в раздумье.
Я успеваю допить виски и до половины выкурить сигарету, когда рыжий медленно поднимается и выходит из комнаты, изменив своему правилу не оставлять меня одного в кабинете. Его отсутствие длится не более двух минут. Вернувшись, он произносит с грустью:
— Что ж, придется проститься с Ларкиным, дружище. Вы знаете, что я человек гуманный, но ничего не поделаешь: с Ларкиным придется проститься.
— А вам не кажется, что уже поздно? — спрашиваю я. — Может, Мортону уже все известно…
— Что, например?
— Например, дата отправки следующей партии…
— А, значит, вы тоже считаете Дрейка старым дураком, Питер, — с печальным укором говорит он. — Вы думаете, что старина Дрейк совсем выжил из ума…
— Что вы, я не имел в виду ничего подобного, — спешу заверить его я.
— Имели, дружище, имели, — он грозит мне пальцем. — Ну да ладно, я не злопамятен.
Затем он возвращается к главной теме:
— Ну как, Питер, у вас найдется сил пережить такое?
— О чем вы?
— Все о том же — о необходимости распрощаться с Ларкиным. О чем еще я могу говорить?
— Не забывайте, что Ларкин — человек ЦРУ.
— Как я могу забыть такое! Именно по этой причине мы устроим в его честь скромную тризну.
— У ЦРУ руки длинные, мистер Дрейк.
— Не настолько, Питер, чтобы дотянуться до Дрейк-стрит. Здесь, в Сохо, ЦРУ не котируется, дружище. Здесь мы привыкли обходиться без ЦРУ.
Он опять подходит к бару, чтобы налить себе очередную дозу.
— Запаситесь, стало быть, нужным самообладанием, Питер, и обуздайте свою скорбь. Вы ведь знаете, я тоже человек чувствительный, но наши эмоции не должны идти вразрез с чувством долга и справедливости. Не то все пойдет прахом.
Дрейк отпивает глоток виски, не потрудившись бросить в него лед, затем опять усаживается в кресло напротив и принимается за любимое занятие: любовно развернув сигару, он старательно обрезает ее. Покончив с этим, он погружается в раздумья и облака дыма.
— Ах, это вы, Ларкин! — радушно восклицает Дрейк, когда спустя четверть часа американец входит к нему в кабинет. — Прошу прощения, что разрешил себе вторично обеспокоить вас, но совсем недавно выяснились новые подробности, нужно кое-что уточнить. Что же вы стоите? Присаживайтесь.
Ларкин садится на диван, на котором не так давно располагалась грациозная Бренда, где ему знать, что занимать место человека, переселившегося в мир иной, не рекомендуется. Садится и застывает в привычной позе с неподвижным выражением смуглого худощавого лица. Долго ждать не приходится, шеф склоняется к письменному столу и включает запись.
Приятно иметь дело с профессионалом. В течение всего времени прослушивания магнитофонной записи его разговора с Мортоном выражение лица Ларкина остается абсолютно неподвижным, и только по чрезмерной напряженности взгляда можно догадаться о том, что он сосредоточенно думает над тем, как выйти сухим из воды, как более приемлемо истолковать смысл воспроизводимых фраз.
— Ну что, придумали свою версию? — добродушно спрашивает рыжий после того, как раздалось ровное шипение, означающее конец прослушивания.