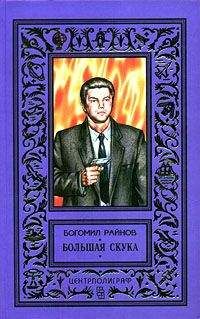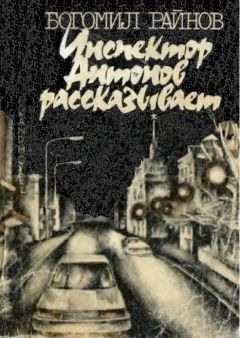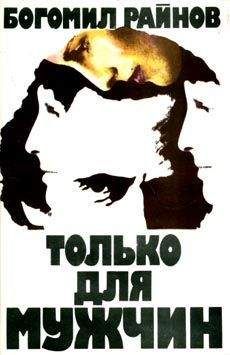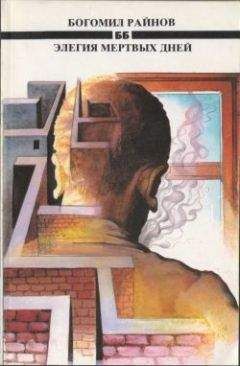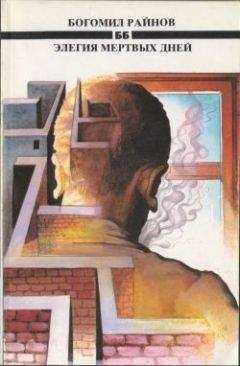Вчера вечером, после того как я уложил на свою кушетку Уильяма Сеймура, я сел в «волво», чтобы уехать как можно дальше от места драмы. Определенные соображения побудили меня умчать к порту; там, за доками для товарных судов, я и оставил свою колымагу. Ее так или иначе пришлось бы бросить. Обнаруженная здесь машина могла натолкнуть преследователей на мысль, что я сумел улизнуть из города с помощью какой-либо лодки.
По-видимому, этот момент моей истории излагается в том абзаце, где встречаются слова «порт» и «волво». Что касается других мест хроники, то в них, вероятно, пересказывается в той или иной форме сфабрикованная моим «другом» версия о ликвидации Коевым Тодорова.
Два обстоятельства во всем этом заслуживают особого внимания. Первое: Сеймур уже осуществляет свои угрозы. Второе: тот факт, что эта насквозь лживая сенсация нашла место в печати, свидетельствует о том, что «команда» пустила в ход решительно все, лишь бы воспрепятствовать моему выезду из страны.
Однако нет худа без добра, в итоге раздумий я прихожу к утешительному выводу, и это частично возвращает мне аппетит и помогает справиться с одним из бутербродов. Из этой же публикации Центр сегодня же узнает о том, что меня постигло, и примет соответствующие меры.
Следовательно, в ближайший вторник человек в клетчатой кепке появится у входа в «Тиволи» и принесет мне спасение либо в виде нового паспорта, либо в виде чего-то другого, что позволит мне беспрепятственно выбраться из Дании. Задача теперь одна — уцелеть до следующего вторника. Притом остаться на свободе.
Но чтобы уцелеть, надо прежде всего как можно реже маячить в городе. Конечно, Копенгаген город большой, в нем почти полтора миллиона жителей, однако в нем и полиции хоть отбавляй, не говоря уже о людях Сеймура. Если судить по напечатанной в газете фотографии, мне совершенно незнакомой, меня в эти дни не раз снимали скрытой камерой, и службы, которым поручено разыскивать меня, вероятно, располагают богатым визуальным материалом, дающим представление о моей фигуре, осанке, походке, физиономии. Притом эти службы прекрасно понимают, что человек, оказавшийся в моем положении, первым делом позаботится об изменении внешности, так что мой комбинезон едва ли помешает опознать меня.
Конечно, факт, что какой-то никому не ведомый иностранец застрелил другого никому не ведомого иностранца, — настоящая находка для журналистов, если не имеется более важных новостей, только вряд ли этот факт расшевелит датскую полицию. И все-таки в первые дни по крайней мере такие места, как вокзалы, аэродромы, причалы, вероятно, будут находиться под пристальным наблюдением, и в отдельных кварталах Копенгагена, включая сюда и пригороды, местные власти произведут обычные в подобных случаях обследования. В конечном итоге и злодей Коев, как многие другие, будет предан забвению. Но пока это произойдет, надо как можно реже показываться на глаза.
Лежа в низком ивняке, обдумывая все это, я начинаю сожалеть, что не воспользовался своей прогулкой к автобусной остановке, чтобы запастись провизией и тем самым избавить себя от необходимости лишний раз вылезать из барака. Хорошо, однако, что у меня есть еще два бутерброда. Двух бутербродов вполне достаточно, чтобы пробыть здесь до завтрашнего вечера. А там видно будет.
Весь следующий день проходит в раздумьях и дремоте под убаюкивающую дробь дождя. Теплое солнце, столь редкое в этих местах, уступило место иным, менее приятным атмосферным явлениям. Не встречая никаких естественных либо искусственных преград, ветер гонит по небу черные как ночь тучи и подметает потемневшую от влаги равнину, а косой дождь хлещет своими струями раскисшую землю, взъерошенный ивняк и бурлящие желтые воды канала.
Что касается дождя, то у него достаточно широкое поле деятельности и в моем скромном убежище. Вода течет через бесчисленные дыры в крыше, а ветер дует через бесчисленные щели в стенах — словом, обе эти стихии бесцеремонно встречаются у меня на спине.
Воспользовавшись какой-то ржавой жестью и двумя прелыми досками, я сооружаю в углу барака нечто вроде навеса, чтобы хоть как-то защититься от сырости. Значительно больше забот доставляет мне холод. Радио я не слушаю; на сколько понизилась температура, мне неизвестно, однако, если судить по тому, как меня трясет, ртутный столбик должен быть сейчас ниже нуля. Я стараюсь не думать про теплый свитер, оставшийся в моем чемодане, потому что от таких мыслей обычно начинаешь дрожать еще больше. Мое внимание задерживается на «Экстрабладет». Набравшись мужества, я стаскиваю комбинезон и обкладываю себя листами газеты, затем снова его надеваю и уже немного погодя с удовольствием устанавливаю, что по моему телу разливается приятное тепло. Этот фокус с газетой я много лет назад усвоил от Любо Ангелова, когда холодной осенью в Пиринском крае мы переходили ночью ледяной поток.
Я съедаю еще один бутерброд. Высохшая булочка вместе с теплом, полученным от «Экстрабладет», оказывают на мой организм такое благотворное действие, что я, несмотря на дождь и ветер, погружаюсь в спокойную дремоту. Но она спокойна лишь до тих пор, пока я не очутился перед кабинетом генерала.
Дверь кабинета чуть приоткрыта. Наверно, секретарша забыла закрыть. Так или иначе, дверь приоткрыта, и я слышу, как мой шеф беседует с Бориславом:
«Надо было тебя послать в Копенгаген, а не Боева. У Боева были нелады с Тодоровым, вот он и воспользовался случаем, чтобы свести с ним счеты».
«Каким способом?» — спрашивает Борислав, будучи, видимо, не в курсе дела.
«Простейшим…» — отвечает генерал.
«Подумаешь, ликвидировал негодяя!» — пытается оправдать меня Борислав.
«Кто бы он ни был, негодяй, нет ли, но устраивать самосуд оперативный работник не имеет права, — сухо замечает генерал. — За самоуправство полагается платить. Боеву тоже будет предъявлен счет».
«Но мы должны его спасти!» — восклицает мой друг, забыв о субординации.
«Сделаем, что сможем, — говорит генерал. — Только удастся ли… Я не всемогущ…»
Они оба выходят в коридор.
«А вот и он!..» — нисколько не удивившись, говорит шеф. Потом укоризненно качает головой.
«Эх, Боев, Боев!..»
«Я не убивал Тодорова», — спешу внести ясность.
«Речь не о Тодорове, а о другом. Маленькие камушки опрокидывают машину, Боев!»
«Если бы они не выследили меня и не нашли портфель на вокзале, им бы ничего не стоило собрать улики в номере отеля, в мансарде, где угодно», — хочу сказать я, вдруг чувствую, что потерял голос и не могу произнести ни слова.
«Ничего, что меня не слышно, я все равно буду говорить, — успокаиваю себя. — Генерал — человек наблюдательный, по губам поймет, что я хочу сказать».
Однако генерал не обращает внимания на мучительные движения моих губ и снова спрашивает с укором:
«А зачем было снимать пиджак? Жарко стало, да? Верно, жара вещь неприятная. Только бывают вещи более неприятные».
«Я не могу допустить, что Сеймур карманник», — силюсь выдавить из горла звуки, но ничего не получается.
«Маленькие камушки, Боев, маленькие камушки!..» — недовольно бормочет шеф.
Потом задумчиво добавляет:
«Подумаем, как тебя спасти».
«Но ведь я уже здесь! — кричу что есть силы, а сам знаю, что из моего горла исходит лишь какой-то непонятный хрип. — Надо только легализовать мое возвращение!»
«Да, но как это сделать? — возражает генерал, разгадав наконец смысл моих слов. — Ты теперь датский подданный!»
От последней фразы я так вздрагиваю, что просыпаюсь и некоторое время бессмысленно смотрю широко открытыми глазами на темные гнилые доски у меня над головой. Снаружи слышится мерный шум дождя, а ветер в щелях то свистит, то утихает, будто делая вдох и выдох.
При мысли, что никакой я не датский подданный, я облегченно вздохнул. Однако эта мысль не смогла вытеснить другую, которая гнетет меня уже второй день. Нет ничего удивительного, если в Центре поверили в то, что я ликвидировал Тодорова. Мои отношения с Тодоровым генералу, несомненно, известны, так же как известны ему и два-три случая своеволия с моей стороны, имевшие место в прошлом в результате стечения обстоятельств. Так что ж удивляться, если там поверят, что я решил свести счеты. Это, конечно, не повлияет на их решимость провести акцию по спасению меня, и все же неприятно, когда тебя подозревают в преступлении, которого ты не совершал.
С Тодоровым я познакомился через Маргариту…
Глаза мои закрываются как бы для того, чтобы я мог с большей ясностью увидеть тот день, когда я впервые встретился с ней. Это был осенний день, дождливый и грязный, как сегодня, и я пошел в столичное управление, чтобы повидаться со своим бывшим коллегой.
Когда я вошел в приемную, секретарши моего бывшего коллеги не оказалось на месте. Я сел, чтобы подождать ее, и, потянувшись к столику за одним из старых журналов, вдруг заметил стоящую у окна девушку, вероятно вызванную сюда по какому-то делу.