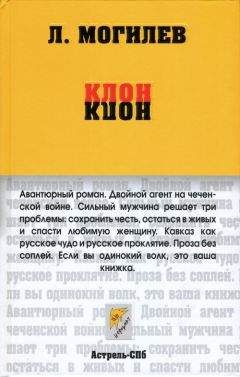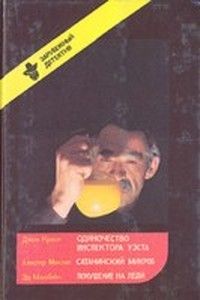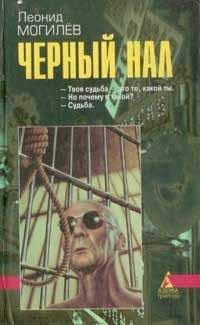— „Калаш“.
— Это было двадцать шестого ноября?
— Да. И потом тоже мы разбирались в Первомайском. Забирали девок, а мужики, которые возмущались… их перестреляли.
— И сколько вас тогда было в Первомайском?
— Двадцать пять человек с северной стороны и двадцать пять с южной.
— А ваш первый бой?
— Миксиюрт. Там мы бились с ОМОНом.
— Что потом происходило с изнасилованными женщинами?
— Их увозили снова в Грозный. Там… На второй этаж дудаевскорго дома.
— А потом?
— Расстреливали…
— Вы обеспечивали внешний круг охраны Дудаева. Дубль. Были ли вы во время важных встреч? Обеспечивали охрану?
— Да.
— Кто встречался с Дудаевым из важных персон в вашу бытность?
— Я не знаю про всех. У вождей свои секреты. Но про Хаттаба точно знаю.
— Кто еще? Можете вспомнить?
— Я прошу отдельную камеру, жратву и сигареты. Я все расскажу…»
После того как его просьба была выполнена, он стал давать обширные связные показания, но уже другим специалистам.
— Всю мою жизнь дальнейшую, все ее течение, все полеты во сне и падение лицом не в грязь даже, а в пыль и недоумение определила та новогодняя ночь в Грозном, еще живом и благодушном, том советском, теплом и случайном, который возник, нет, не возник, а был определен провидением и судьбой, во время моего пьяного передвижения в «Икарусах» в треугольнике Ростов — Минводы — Пятигорск.
Портвейн не лез в меня, и сухое вино не согревало, и только водка, злая и великодушная, помогала жить. Я пропах чебуреками и тщетой и разглядывал, стоя в буфете ростовского вокзала, пассажиров и тех, кто оказался здесь по случаю. Стихи мои, тонкие и печальные, были со мной, я то проговаривал их, то пропевал, и если бы не они, то жизнь вынесла бы меня на другой берег и не было бы ничего вовсе.
Женщину эту я вначале и не заметил даже. Она стояла ко мне спиной и пила этот отвратительный кофе из ведра. Что-то там у нее было с собой в пакетиках и свертках. Яйца, пирожки, бутерброды. Я уже уходил, но Бог, именно он, а не тот, что внизу и сбоку, заставил меня оглянуться. И все… Таких глаз больше не будет никогда. И видел я их второй раз в жизни и, значит, это было предназначено. Я считал себя огарком эпохи и более всего хотел в Париж, а в данное время собирался уехать в Питер, к своим туманам и фонарям, прекратить это времяпрепровождение — не экскурсия даже, а так, метание по городам и весям. Билет уже был, и поезд через час. Но не бывает таких глаз… Я встал в очередь в кассу вслед за ней и узнал, что до Грозного и билетов-то нет. Тогда она метнулась на автостанцию, и я следом. Понятно, не подавая вида и на некотором расстоянии. Через три часа мы ехали в Грозный, а поскольку билеты брали в одно время, то я оказался с ней рядом. Она у окна, я слева. И автобус тронулся.
Ночь эта, когда вначале знакомство наглое и навязчивое, — а мы были знакомы уже, ей пришлось признать это, — и она не хотела вначале продолжения того, что уже было и ушло, слишком это было случайно, полоса отчуждения, перегар и чебуреки, а потом полночи чтение стихов шепотом. Когда мы подъезжали к Грозному, вдруг пошел снег, и это было как знамение. Все, что предначертано, — необъяснимо.
В доме не было в тот день и ночь никого. Приехать она должна была после праздников, но явилась без предупреждения, как и снег этот неверный и густой. Имени ее я не произношу, чтобы не поминать его всуе… Не все было у нее ладно тогда. Сердечная смута и томление души, и оттого-то и совпали выступы и впадины, и провернулись шестерни на призрачных осях…
…Ночью с елки сорвался шар. Время текло настолько медленно, но вместе с тем неотвратимо, что я видел, как он падает. Я лежал на тахте с краю, не спал, хотя недавно забылся сном кратким и счастливым, а елка, которую я умудрился отыскать в городе и купить за какие-то безумные деньги и которую мы наряжали вечером, отчетливо различалась на фоне окна, блестела мишурой. В ней происходило какое-то движение, игрушки елочные жили своей ночной жизнью. Я хорошо помню их — злодеи картонные, стеклянные собаки, старый крокодил, кораблик из скорлупки грецкого ореха. Только вот непрочной оказалась нить этого шара. Он тоже был живой, как и весь этот елочный народец из чемоданчика.
Покинув тонкий обруч, что она слагала из своих рук, я встал и подобрал осколки, не зажигая огня. Потом подошел к окну. Ночь была бела, и важен каждый шорох, но она, не зная еще об этом и о пропаже своей, спала.
Я вернусь сюда весной, говорил я себе. Я непременно вернусь. И как трудно и горестно будет ждать этой весны порознь. Что мы в сущности сделали? Пришли в этот дом, нарядили елку, встретили Новый год и потом уснули в одной постели. Какой же это грех.
Я вернулся к ней, и она очнулась. А дальше и случилось-то, что должно было. Узнавание и блеск елочной мишуры остались в той, другой, половине ночи. А самое страшное — глаза ее были закрыты, и я решил, что все происходящее — досадное, хотя и не совсем неприятное приключение.
Как просто и светло было еще день назад, несмотря на портвейн и чебуреки. Белый день умещался в фортку гостиничного номера или окошко автобуса. Но жизнь фортель свой не преминула выкинуть и обратила сущее во зло, ибо что есть добро в первые часы Нового года?
А жизнь, что предстояла после, скрывала когти, клыки, гортанные крики и смрад бэтээра, который будет гореть неподалеку, совсем недалеко от дома, но пока видение это, самое реальное будущее, было посчитано мной за изгибы и вывихи сна. Если бы я мог, то закричал бы, но не сделал этого. Тогда бы она открыла глаза и я не ушел бы на вокзал, потому что таких глаз больше не будет.
От времени можно отстраниться зеркалами и какими-то хитрыми экранами, что удавалось академику Козыреву, но я мог укрыть ее от времени только собой и потому прижался крепче, а когда она уснула неотвратимо и жутко, встал, оделся и вышел.
Грозного я почти не помню, только снег кругом, а это случается в здешних краях так редко.
Страшилки о Чечне по телевизору проходили мимо моих ушей, газеты я читал от случая к случаю, пока не попалась мне рукопись Феди Великосельского. Он про край этот кошмарный собирал все что мог и уже получил договор из «Экстра-пресс». Оставалось только самому съездить еще раз, чтобы выяснить важное. И этот раз стал для Феди последним. Сердце мое к тому времени ожесточилось, как и у многих прочих. Только вот в этом тексте я нашел не что иное, как адрес того самого дома.
Показания беженцев, дезертиров, оперативников, пленных. Я прочел это трижды или четырежды, но более ничего. Только сбивчивое описание побоища. Имена свои дававшие показания скрывали, назывались только те, кого уже не было в живых. И коли адрес тот был дан, значит, иллюзий не оставалось. Само событие происходило по другому адресу, а этот упоминался прилагательно. «В субботу двадцать седьмого апреля у соседей, по адресу… была свадьба. Женили сына. (Это ее брата.) Все шло нормально. Вечер подходил к концу. Последние гости расходились по домам, аппаратуру дискотеки стали заносить во двор. Я пошла домой, чтобы переодеться, но через две-три минуты услышала скрип тормозящей машины. Выбежав на улицу, я увидела, как по трассе мимо нашего двора с большой скоростью мчатся белые „Жигули“, а за ними тащится по земле юноша, которого держат из полуоткрытой задней двери автомобиля за руки.
Ярко горел фонарь, все было прекрасно видно. Кто еще не ушел, побежал следом за машиной. Юношу наконец выбросили на трассу, и его подобрали, а машина, развернувшись, на огромной скорости повернула назад. Выруливала на людей, они отскакивали и кидали камни. Так машина гонялась минут пять по дороге, и камни все бросали.
Я забежала в дом, позвонила председателю местного Совета и в милицию. Мы кое-как затолкали парней во двор и закрыли калитку. Тут „Жигули“ остановились, и милиция подъехала, и двое парней с окровавленными лицами стали рваться во двор, но их не пускали. Подъехал председатель местного Совета, и один из парней, узнав его, мазнул ему кровью по лицу. „Это будет твоя кровь“, — сказал он. Милиционеры оттащили его, и председатель пошел в дом умыться. Но когда вышел, его ударили в лицо, и опять милиция вмешалась. А потом милиция до утра записывала показания.
На следующий день, в воскресенье, в шесть часов, я вышла во двор, и как раз в это время к дому подъехало множество машин, и из всех выскочили люди. Одни побежали к дому напротив, а остальные ворвались к нам. В руках у них я увидела ножи и пистолет. Я забежала в дом и заперла дверь за собой. Потом я услышала, как бьют стекла, ломают дверь в доме напротив и крики „Что вы делаете?“ Вся улица уже была запружена машинами с чеченцами. Мимо проезжал русский в „Жигулях“, его выкинули из машины, автомобиль перевернули. Весь этот кошмар длился минут десять. Потом все сели в машины и уехали. Подъехала милиция, люди высыпали из домов и стали кричать. Тут стала возвращаться вся эта автоколонна с бандитами. Но, не доезжая до нас, они свернули, а милиция все ходила вокруг, все осматривала, и тут я поняла, что все мы тут беззащитны и всех нас раздавят. Через десять минут был второй налет на соседский дом. Теперь уже были грузовики и еще больше людей. Добив, кто еще оставался, они снова уехали. Много стреляли в воздух. Заперев ворота и дом, мы убежали и спрятались в кустарнике. Потом, когда все утихло, вернулись за деньгами и документами. И тогда-то я увидела Кольку, новобрачного. Он висел на фонаре, поворачиваясь вокруг оси, и я бросилась, чтобы вынуть его из петли, но оказалось, уже поздно. Живот его был распорот, и кишки вывалились наружу. Я никогда не видела кишок человеческих, мне показалось, что это кровавые какие-то черви, и я потеряла сознание».